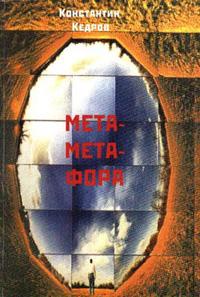Константин Кедров Метаметафора-белая книга
Призрак бродит по Европе и по Америке, призрак плагиата. И нет никому из нас от него никакой защиты. Овеянный легендами культуролог профессор Гачев, который, несмотря на всемирную известность, все время остается чуточку за кулисами, в роковом 91-ом по инициативе своего друга Юза Алешковского поехал в США читать курс лекций. Там он переживает все то, что давно описал Набоков в романе «Пнин». Но кульминацией терзаний на чужбине стало столь знакомое каждому из нас каждому из нас чувство, что тебя безнаказанно обворовывают. Трагическая глава об этом называется «Мой вурдалак»: «Ну, смерть моя! Эпштейн снова впился! Вчера часов в семь вечера звонок – и сладенький голосок: – Георгий Дмитриевич? Это Миша Эпштейн».
Не миновала и меня сия горькая чаша. Нос к носу столкнулся с ним в 82-ом году в «Новом мире» «А у вас что здесь идет?» – тем самым тихим вкрадчивым голоском. Черт меня дернул сказать всю правду: «Статья «Звездная книга». – «А это о чем?» – «О том, что внутри всех великих текстов скрыт космический код». – «А как он называется?» – «Метакод, или метаметафора». – «А можно граночки посмотреть?» Дал я посмотреть граночки. А через полгода вечер поэтов метаметафоры, которых я впервые, еще в 76-ом году в ЦДРИ представлял. А тут вдруг вечер ведет Эпштейн, да еще и словом «новым» всех одарил – «метареализм». Меня с метаметафорой и метакодом советская власть держала под спудом. А Эпштейн с его метареализмом резво пошел.
Такая же участь постигла Гачева. «И вот начал этот меня расспрашивать, обкладывать, как волка флажками – вопросами… Знает, у кого насосаться идей и образов. И не сошлется». Так все и произошло. У Гачева главы об отцовстве, которые я еще в 80-х читал. Смотрю, у Эпштейна уже увесистый том, весь об отцовстве. Да ведь как ловко уперто: самая суть идеи, только предельно упрощено, жевано-пережевано. Прав Гачев: «У него-то все тут идет, на мази. Сидит на компьютере, шпарит эссе за эссе – и печатает свои миниатюрки, по мере рынка и по потребе мозгов нынешних».
Я всегда с тихой завистью смотрю на титры американских фильмов, где не только имя сценариста указано, но еще и присутствует на самом почетном месте: идя и такого-то, – и далее имя рек.
У концептуалистов Эпштейн умыкнул идею каталога каталогов. Много раз я слышал на полуподвальных выступлениях Пригова и Рубинштейна эти уморительные до колик «каталоги». Вдруг где-то год спустя выходит на сцену Миша и шпарит как ни в чем ни бывало свой «Каталог каталогов». Но в отличие от Рубинштейна без малейшей самоиронии. Идея не просто заимствована, но доведена до абсурда. А потом все это с умным видом и в статьях, и в книгах обильнейшим образом представлено. А Рубинштейн как был, так и остался писателем для элиты.
Как нам, бедным, спастись от «вурдалаков»? Патентов на филологические открытия не существует. Нет патентов и на художественный прорыв. Когда-то еще Маяковский иронически заклинал. Мол, «дорогие поэты московские, / я вам говорю любя: не делайте под Маяковского / – делайте под себя».
Хочется хоть как-то Гачева защитить с его идеей «жизнемыслей» национальных культур. По Гачеву эмблема Грузии – виноградная гроздь – все наружу. А у Армении – гранат: та же гроздь, но все внутри. Того и гляди появится очередной труд очередного прилипалы, где Греция окажется оливой, а Россия репой. Не хочется быть репой пареной на литературно-рыночной кухне.
Алексей Парщиков «Путь поэзии – от внешней формы к внутренней»
Беседовал Александр Шаталов, Книжное обозрение
Алексей Парщиков получил известность в начале восьмидесятых, когда страна переживала очередной поэтический бум. Его яркие и образные стихи волновали и будоражили. Вместе с Александром Еременко и Иваном Ждановым он составил ядро неформального объединения, которому критика дала название «метафористов». Спустя годы ситуация в поэзии изменилась и многие ранее непонятные тексты этих авторов ныне воспринимаются едва ли не как классические...
– Недавно вышла книга, на обложке которой указано «Поэты-метареалисты: Александр Еременко, Иван Жданов, Алексей Парщиков». Давайте попробуем уточнить, что это означает – поэты-метареалисты?
– Этот термин возник в середине 80-х годов. Поначалу авторы объединялись словом «метаметафора». Ввел это понятие Константин Александрович Кедров. В дальнейшем слово оказалось интерпретировано самим Константином Александровичем более индивидуально и стало зависеть от его собственных опытов в поэзии. Некоторые критики начали называть это течение метареализмом, что выглядело более нейтрально и, по-видимому, пришлось по вкусу Игорю Клеху, который составлял книгу...
***
"Русская мысль ", 2002 г.
КОД ВЕР, ИЛИ МЕТАМЕТАФОРА КОНСТАНТИНА КЕДРОВА
----------------------------------------
СЕРГЕЙ БИРЮКОВ, Германия
----------------------------------------
Константин Кедров - фигура в московской культурной ситуации уникальная. Поэт и философ, критик и литературовед, газетный обозреватель и автор телепередач о литературе и ее связях с другими искусствами и наукой... Уже этих занятий вполне хватило бы на нескольких человек. Однако, это далеко не полный список.
Константин Кедров организовал литературную группу ДООС , расшифровка выдает в нем человека, склонного к игре - Добровольное Общество Охраны Стрекоз. В самом деле к игре Кедров склонен, мы увидим это дальше, но общество вполне серьезное. Эпиграф из крыловской басни - ''Ты все пела? Это дело!'' - переосмыслен именно в таком духе. Стрекоз, то есть поющих, творящих, необходимо защищать, хотя бы на общественных началах. Во всяком случае попытаться вот таким, парадоксальным образом привлечь внимание к поэтическим поискам, да и к самим поэтам, которые раньше были изгоями по милости бездарных властей, а сейчас изгои по небрежению творческим капиталом новыми капиталистами. Поэтому ДООС был протестным в 1984 году, когда только появился, и остается протестным сейчас. Так вот, под ''знаменем'' ДООС Кедров постоянно организует различные совместные действия поэтов - большей частью в Москве, но иногда и во Франции, например, с Алексеем Хвостенко, с французскими поэтами. Не так давно результатом таких действий стал выход антологий русской и французской поэзии ''Депо'' - в двух вариантах, один том на русском, другой - на французском. Были такие акции и в Голландии, где живет участница ДООС Людмила Ходынская.
В Москве же трудно счесть, что успевают стрекозавры и примкнувшие к ним завры (все члены ДООС имеют наименования, оканчивающиеся на ''завр''). Это вечера поэзии в обычных и самых необычных местах, это факультет философии и поэзии в Университете Натальи Нестеровой, который возглавил Константин Кедров, это ''Журнал Поэтов'', выходящий не очень периодично, но зато стабильно интересный, это сотрудничество с музыкантами, художниками, актерами и режиссерами. В частности, в Театре на Таганке Юрий Любимов поставил пьесу Кедрова о Сократе. И в том же театре два года подряд устраивались дни поэзии. В одном из них я участвовал и своими глазами видел как люди спрашивали лишние билетики, что живо напомнило о 60-х годах. В тесной дружбе с ДООСом были, покойные ныне, Игорь Холин и Генрих Сапгир. Моя Академия Зауми и ДООС давно находятся в дружественном взаимодействии.
Основные действующие лица в ДООСе, конечно, сам Константин Кедров и его жена - поэтесса Елена Кацюба. Без Елены многие акции Константина были бы затруднительны. Она безусловно обладает особым талантом огранки идей. Ее руками набраны и смакетированы многие выпуски произведений ДООСа, ''Журнал ПОэтов''. Но она еще и испытательница палиндромической поэзии и автор ''Первого палиндромического словаря современного русского языка'' (сейчас вышел "Новый палиндромический словарь"). Кацюба и Кедров наиболее последовательно работают в сложной форме анаграмматической поэзии, когда слово как бы ''выворачивается''. Я это называю переразложением слова, сюда входит и анаграммирование. Вот Кедров выворачивает переразлагает собственную фамилию, получается: код вер, рок дев, вор дек, век орд, вод рек. Кажется, что игра, но посмотрите, сколько возникает смыслов и все они зашифрованы, стянуты в одно слово - фамилию поэта.
Как поэт Константин Кедров состоялся уже в пятидесятые годы, но вплоть конца 80-х не имел возможности публиковать свои стихи, ''устный период'' продолжался 30 лет, лишь в 90-е годы наступает ''печатный период''. Его теоретические и философские книги также не получали доступа к печатному станку, первая - ''Поэтический космос'' - появилась в 1989 году, основной же массив своих работ ему удалось выпустить только во второй половине 90-х. И здесь он наконец смог основательно проговорить продуманное за предыдущие десятилетия.
Термин ''выворачивание'' - любимый в философской и поэтической концепции Кедрова.
Откуда он к нему пришел и как это получилось, спросил я однажды у Константина Александровича.
Он ответил таким образом:
Мой студенческий диплом назывался "Влияние геометрии Лобачевского и теории относительности на поэзию Велимира Хлебникова". Это была единственная форма поэзии, которая меня увлекала. Поместив себя на поверхность псевдосферы Лобачевского с отрицательной кривизной, я охватил собою весь мир. Позднее я узнал, что у Флоренского это называется обратной перспективой. Однако ни Флоренский, ни Лобачевский, ни Хлебников не догадались поместить на псевдосферу себя. Удивило меня другое. Геометрии Лобачевского, с которой я познакомился в 1958 году, предшествовало очень личное переживание. 30 августа 1958 года в Измайловском парке в полночь произошло то, что позднее я назвал "выворачивание", или "инсайдаут". Было ощущение мгновенного вовнутрения мира таким образом, что не было границы между моим телом и самой отдаленной звездой. Я перестал быть внутри вселенной, но охватывал себя небом, как своей кожей. Нечто подобное произошло и со временем: прошлое опережало будущее, будущее оказалось в прошлом. Это была реально ощутимая и вместимая вечность.
К сожалению, в течение месяца это ощущение все более ослабевало, пока не стало воспоминанием. Однако это повторилось еще один раз - через десять лет. Где-то в 70-е годы я нашел схожее описание у Андрея Белого, когда он, взойдя на пирамиду Хеопса с Асей Тургеневой, "сам себя обволок зодиаком". Это и есть "я вышел к себе через-навстречу-от и ушел под, воздвигая над". И еще: "Человек - это изнанка неба, небо - это изнанка человека".
А вот эти процитированные строки уже из поэмы ''Компьютер любви'' - своего рода энциклопедии метаметафоры, еще одного изобретения Кедрова. Впервые он предложил этот термин в 1984 году в журнале ''Литературная учеба'' в статье под названием ''Метаметафора Алексея Парщикова''. В книге ''Энциклопедия метаметафоры'' (М., 2000) Кедров возводит этот термин к Эйнштейну и Павлу Флоренскому. В самом деле, Флоренский в своих работах показал взаимозависимость макро и микромира, человека и космоса. Кедров ощущает себя наследником этих идей. Он подчеркивает - ''В метаметафоре нет человека отдельно от вселенной''. В своих книгах, а их с 1989 года вышло немало, он выдвигает идею своеобразного всеединства поэзии, науки, философии, религии, исходящего из всеединства Творца, космического мира и человека. Собственно эту идею Кедров проповедовал на базе русской классики (прежде всего) в Московском Литературном институте, где по недосмотру хранителей соцреализма преподавал с 1970 до 1986 года. ''Несмотря на отстранение от преподавания под давлением КГБ, я продолжал работу над теорией метаметафоры'', пишет Кедров. Еще в институте он начал вести и приватный семинар, в котором основными участниками были, ставшие в 80-е годы известными, поэты Иван Жданов, Александр Еременко, Алексей Парщиков. Их яркие, густые метафорические стихи тогда уже начинали звучать на домашних вечерах, ходить в списках и даже иногда выходить в печать. А всякие уклоны в поэзии в то время пресекались. Видимо, необычные по тем временам идеи поэтического космизма, да еще с обращением к религиозным мотивам, насторожили стражей словесности и Кедров стал фигурантом некоего дела под странным именем ''Лесник'' (ему потом удалось раскопать оперативные документы). Так что метаметфора оказалась небезопасной для ее создателя, но весьма плодотворной для поэзии.
В книге 2001 года ''Инсайдаут'' Кедров дает 16 определений метаметафоры, в которых он соединяет на теоретико-поэтическом уровне рациональное и иррациональное. В целом философ и поэт движется к некоему высшему антропоцентризму, постоянно утверждая, что ''вся вселенная охватывается изнутри человеком, становится его нутром и человек обретает равновселенский статус'':
Человек - это изнанка неба.
Небо - это изнанка человека.
Такое понимание восходит не только к идеям Эйнштейна, Флоренского, но и к поэтическим прозрениям Андрея Белого, у которого в его поэме о звуке ''Глоссолалии'' рот - это отвердевший космос. Источников может быть и должно быть много. В своих книгах Кедров оперирует необыкновенно широким для века узкоспециальных знаний спектром тем, проблем, гипотез и доказательств. Можно сказать, что какие-то его выводы небесспорны или даже очень спорны. Но он и работает с таким материалом, который никак не назовешь однозначно ясным - творения Шекспира, Достоевского, Хлебникова, Блока, Заболоцкого, Сведенборга, Даниила Андреева или художника Павла Челищева, который приходится двоюродным дедом Константину Кедрову... Кстати, вот как интересно Челищев разрешил вопрос о спорном и бесспорном. В книге ''Параллельные миры'' (М.,2001) Кедров приводит такой эпизод:
Однажды у Павла Федоровича спросили:
- Почему вы нарисовали ангела с крыльями, растущими из груди. Где вы видели, чтобы у ангелов так росли крылья?
- А вы часто видели ангелов? - поинтересовался Павел Челищев.
Челищев покинул Россию в 1920-ом году вместе с деникинской армией. Он жил в Берлине и Париже, оформлял балеты Стравинского, затем переехал в Америку и оттуда в сороковых годах писал сестре письма об открытой им ''внутренней перспективе'' в живописи:
''Стремиться покорить вселенную бесполезно - прежде всего надо понять самого себя. При прозрачном объеме нашей головы перспектива не плоскостная, а сферическая - а об ней никто не думал за последние 500 лет! Так что брат твой наверное будет иметь чудное прозвище безумца'' (цит. по кн. К.Кедрова ''Метакод и метаметафора''. -М., 1999).
Константин Кедров родился в 1942 году, еще был жив его двоюродный дед, но они не могли встретиться. Однако они встретились согласно геометрии Лобачевского, теории относительности Эйнштейна, органопроекции Флоренского, сферической перспективе Челищева и наконец метаметафоре самого Кедрова.
Вот эта встреча и будет, вероятно, самым точным объяснением того, чем занимается Константин Кедров в поэзии и философии, глубоко зашагивая в иные области знаний и верований.
***
Ю. Арабов вспоминает 1-й вечер метаметфоры в1979 году
С метареалистами я познакомился впервые в конце 1979 года, кажется, в декабре, на вечере в ЦДРИ, где в “малом каминном зале” (так, вроде бы, это называлось) выступили три почти не известных мне поэта, неизвестных по стихам, но о которых я слышал от людей что-то смутное и неопределенное. Об одном из них, Алексее Парщикове, мне рассказывал мой друг, который случайно был у него дома. Он говорил мне, что Алеша пишет какие-то заумные стихи, подражая то ли Мандельштаму, то ли Бродскому, в общем, не разбери-поймешь... А Мандельштаму подражать не надо. Надо подражать Пастернаку или, на худой конец, Вознесенскому, который сумел тогда соединить “хлебниковскую заумь” с социальной проблематикой и добился впечатляющих результатов...
Вообще, поэтическая Россия конца 70-х представлялась мне довольно промозглым местом. Тогда мело во все концы, во все пределы, и если бы не поэтическая грубость Высоцкого и не спланированные скандалы Андрея Андреевича, то жизнь была бы непереносимо скушнеровской и чухонской.
Я к тому времени кропал более или менее регулярно уже лет семь-восемь, не публикуя ни единой строчки, перепробовав все мыслимые поэтические манеры (не специально, а по увлечениям) и смутно догадываясь, что нужно нечто новое, понимая, что самостоятельного поэтического языка я в себе пока не обнаружил. Из всех арсеналов метафора представлялась мне наиболее крутым и дееспособным инструментом, при помощи которого я мог бы ваять свои воздушные замки, свой сладостный бред.
Не ожидая от поэтического вечера в ЦДРИ ничего хорошего, я приперся на него слегка уязвленный тем, что выступаю не я, а “они”, — чувство, к сожалению, знакомое нашему брату-литератору и не делающее никому из нас чести.
Поэтов представлял критик Константин Кедров, напомнивший мне сразу хитрого российского мужика то ли из Лескова, то ли из “Чапаева”, который непременно спросит: “Ты за большевиков али за коммунистов?” Однако Кедров этим вопросом пренебрег, а начал с того, что еще Александру Сергеевичу Пушкину надоел трехстопный ямб... Я насторожился, дело принимало нешуточный оборот.
Первый поэт с партийной фамилией, длинный, худой, как жердь, моей настороженности не развеял. Я понял, что имею дело с поведенным... Что же касается до стихов, то я, признаться, ничего не понял, но свалил этот факт не на себя, а на сами стихи. “Как его?...Жданов? Не тянет, парень, не тянет, а туда же, на сцену вылез... Одно слово, — Алтай!”...Впоследствии, уже на другом вечере с этими же участниками какой-то графоман прочел стихотворение: “На свете много мудачков. И в очках, и без очков.” И я, слушая эту чушь, устыдился своей первой реакции на ждановские стихи. Сегодня, когда я хочу поймать в знакомом мире нечто новое, я твержу себе под нос строчку из его “Взгляда”: “Пчела внутри себя перелетела...” И мне становится легче.
Второй участник вечера понравился больше. Он был похож на уволенного из мушкетерской компании Д’Артаньяна, служащего боцманом, но пьющего, как Д’Артаньян и боцман вместе взятые. Его поэтический мир показался более близким, может быть, оттого, что я в то время увлекался Платоновым. Еременко (а это был он) писал о рукотворной природе, созданной человеком, о мире механизмов, встроенных в природный Божеский мир...
“Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема.
Шелестит по краям и приходит в негодность листва.
Вдоль дороги прямой провисает неслышная лемма
телеграфных прямых, от которых болит голова.
Разрушается воздух. Нарушаются длинные связи
между контуром и неудавшимся смыслом цветка.
И сама под себя наугад заползает река,
и потом шелестит, и они совпадают по фазе.
Электрический ветер завязан пустыми узлами,
и на красной земле, если срезать поверхностный слой,
корабельной сосны привинчены снизу болтами
с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой.(...)”
А выступивший вслед за ним Парщиков вообще покорил сразу, так как внешне был копией Пушкина времен “Евгения Онегина”. Он читал нечто несусветное, сбиваясь, краснея и прищелкивая пальцами:
“Еж извлекает из неба корень,
темный пророк.
Тело Себастиана
на себя взволок.
Еж прошел через сито,
так разобщена
его множественная спина. (...)”
Вот это да! Класс! Сравнить колючее тело ежика с телом св.Себастьяна, утыканное стрелами и со струйками воды, бежащими из сита... Выходит, что еж — это и Себастьян, и струйки из сита, и мужские подбородки, обрастающие за ночь щетиной. И это все одновременно, быстро, как в мультипликации! Ничего себе ежик! И еж ли это? По-моему, Алеша описал совершенно инфернальное существо, в котором существуют множество качеств нерасчлененно, слитно, словно Бог не знает, что будет в дальнейшем с этим объектом, как его оформить единым качеством и выпустить в свет... Было отчего прийти в замешательство. Я возвращался с вечера в болезненном возбуждении.
Но, как выяснилось впоследствии, не только я. Болезненное возбуждение охватило часть поэтической Москвы, которая вскоре сбилась в штурмовую бригаду с именем “метареалисты”. Этот термин предложил, кажется, критик М.Эпштейн, а К.Кедров ввел в обиход метаметафору. Что все это значило? Никто толком не знал. Но все догадывались лишь об одном: два талантливых толкача вводили в литературу только тройку вышеназванных первопроходцев, до остальных им особенно не было дела! А в круг метареалистов в начале восьмидесятых входили В.Аристов, И.Винов, А.Чернов, Р.Левчин, А.Дорогомощенко, И.Кутик, О.Седакова, М.Шатуновский и ваш покорный слуга. Если кого-то позабыл, заранее извиняюсь.
Постепенно, перезнакомившись друг с другом и клянясь в верности до гроба, почти все мы осели в поэтической студии “Зеленая лампа” при журнале “Юность”, восхваляя собственные вирши, показывая кулаки “деревенщикам” и кукиши советской власти. Студией руководил поэт Кирилл Ковальджи, человек смиренный, переносивший все наши глупости со спокойствием стоика.
Обсуждения стихов бывали довольно бурными. Помню, как я вдруг набросился на Марка Шатуновского за то, что в своем тексте он слил “мясо” и “бумагу” в одно целое. Почему? Непонятно. Ведь для метареалиста подобная “нерасчленимость” объектов является фирменным знаком.
Как и всякая школа со смутной программой и неопределенной артикуляцией, без манифеста, но зато со вселенским замахом, метареалисты старались занять собой все мыслимые ниши на пятачке поэтической Москвы. Но где-то в году 82-ом грянул первый гром. Тогда ЦК комсомола организовал рядом с ЦДЛ некое подобие поэтического клуба в двухэтажном особняке, в котором впоследствии снималась популярная ТВ-передача “Что? Где? Когда?” Это место на улице Герцена стало вторым после “Юности” пристанищем новой поэтической школы, там же был избран первый (и последний) король поэтов Александр Еременко, избран тайным голосованием, посажен на трон (стул) и пронесен по залу со стеклянным потолком. Казалось, ничего не предвещало нам тревожных времен. Король был “свой” и школа была “своя”. Однако внутри нее уже существовали течения, грозившие крахом в недалеком будущем.
Собственно, рафинированным метареалистом был только И.Жданов. Близко к нему стоял Парщиков, однако попытки последнего написать поэму, посвященную Н.С.Хрущеву, говорят о том, что парщиковский мир был, в целом, менее герметичным, чем мир Жданова. Еременко же в начале восьмидесятых открыл вообще золотоносную жилу, которая пользовалась бешеным успехом у публики. Он вдруг стал пародировать советские штампы, писать соцреалистические биографии Покрышкина, Н.Островского, описывать взятие Зимнего в 1917 году... Метареализм в его лице улетучивался, переплавлялся в тотальный “иронизм”. Что касается других поэтов, входивших формально в этот лагерь, то их путь был столь же извилист. Меня, например, всегда отталкивала в “классическом метареализме” его описательность, его кажущаяся “холодность”. Я предпочел сюжет и метафору как форму визуализации словесных конструкций и, приправив их “русской тоской” и “русской идеей”, шагнул, как мне кажется, к собственному языку.
Но когда я написал слова “грянул гром”, я вовсе не имел ввиду эти расслоения внутри метареалистической школы. Громом для метареалистов стало явление московского концептуализма в лице Пригова, Рубинштейна, Монастырского и некоторых других. Пригов и Рубинштейн организовали свой вечер в Поэтическом клубе на ул. Герцена. Пришло довольно много народу. Были среди них и два идеолога метареализма, — Кедров и Эпштейн. Я помню, с какими лицами слушали критики выступление Пригова. Щеки Эпштейна пылали неподдельным восторгом. “Интересно... Очень интересно!” — повторял он в ответ на мой вопросительный взгляд. Кедров же был более холоден. “16-я полоса “Лит.газеты”, — охарактеризовал он выступление концептуального дуэта, — Клуб “12 стульев”.
Действительно, концептуалисты делали, на первый взгляд, то же, что делал Еременко, только проще, доходчивее и смешнее. Паразитирование на советских штампах казалось актуальным и политически выигрышным. Приговские милиционеры и пожарники были в реальной жизни почти культовыми фигурами. Тогда мы еще не знали о претензии концептуалистов на подобное описание всего мира,всегомироздания,о рассматривании своей школы как единственной и завершающей мировую культуру... Но что-то близкое к этому все мы ощутили. Особенно смущала неряшливость языка, поэтическая нетехничность, граничащая с примитивом.
Для схватки были выстроены полки и назначены главнокомандующие. Метареалистов “второго призыва”, типа меня, в бой не взяли. Главный удар должны были выдержать первозванные. Поэтическим Бородино выбрали один из залов Дома работников искусств... Однако вся битва получилась вялой, невыразительной. Она состояла из того, что две группы поочередно прочли свои вирши, а потом началось “обсуждение”, в котором приняли, в основном, участие друзья и родственники погибших. Наиболее запальчиво говорила Ольга Свиблова, тогдашняя жена Парщикова, сделавшая для последнего много хорошего. Она заявила, что в стихах метареалистов (в частности, у Алеши) небо соединилось с землей, и наступил, по-видимому, Третий Завет и тысячелетнее Царство Праведных... Надо заметить, что подобное сенсационное замечание никоим образом не отразилось на общем пониженном тоне решающего сражения двух поэтических школ. Чувствовалось, что будет достигнут сепаратный мир, шаткое равновесие с тайным подмигиванием друг другу. Это и состоялось.
Подобное положение продлилось до перестройки, до времен, когда поэтический клуб на ул. Герцена почти совсем стерся из памяти (просуществовав около года, он благополучно скончался). На смену ему пришел “неформальный” клуб “Поэзия”, основанный в 1986 году и объединивший на первых порах под своей летучей крышей всех представителей непечатного поколения — и метареалистов с концептуалистами, и таких разных, не входящих в конкретные школы поэтов как Н.Искренко, Е.Бунимович, В.Друк, И.Иртеньев.
Наиболее шумной акцией в устном жанре было выступление клуба на подмостках ДК табачной фабрики “Дукат”, состоявшееся осенью 1986 года. В печатном жанре, — “испытательный стенд” ”Юности”, специальный поэтический раздел журнала, куда в 1987 году легкая рука Ковальджи поместила и “метареалистов”, и “иронистов”, и Бог знает, кого... Только “деревенщиков” не поместила. У этих была тогда своя “возрожденческая плеяда”, наспех сколоченная в противовес жидам (за коих они нас принимали) и приказавшая долго жить вместе с интересом к любой поэзии во времена ельцинского капитализма.
В “испытательном стенде” ”Юности” были впервые легализованы поэты вроде меня, “метареалисты” подружились с “концептуалистами”, а иронисты начали дудеть в свою полуфельетонную дуду.
На этой точке внешнего мира и благополучия закончились 80-е годы. К началу 90-х каждый из нас уже имел по несколько сборников стихов в России ли, Франции или Америке. Некоторые уехали. Иные спились. А кто-то, как Нина Искренко, “полистилистка”, питавшаяся от всех мыслимых поэтических школ, приказал долго жить... Парщиков в эмиграции написал работу о Дм.Ал.Пригове, факт немыслимый, подтверждающий предположение, что концептуализм одержал кровавую победу над своим смутным противником.
Метареализм как школа распался. Но, казалось бы, столько лет утекло, столько всего написано и опубликовано, а осмысления нет, понимания нет, только поверхностные заимствования в стихах нового поэтического поколения да брюзжание критиков о том, что “восьмидерасты” не ударили мордой об стол “шестидесятников”... А зачем? Разве нет более интересного занятия?
... Так что же это было? Что воплотил собою “метареализм”, а что не сумел, не успел, не сделал?
2.
А воплотил он собою нечто немыслимое, дикое для контекста современной культуры, — всего лишь поиск Бога в обезбоженном постмодернистском мире. Что это был за Бог? Безусловно Христос, но Христос не православия и даже не католичества.
“Хоть ты, апостол Петр, отвори
свою обледенелую калитку.
Куда запропастились звонари?
Кто даром небо дергает за нитку?”
(А.Парщиков)
Это был скорее Христос гностиков, замешанный на эллинской метафизической традиции Платона. Личная судьба как жертва не рассматривалась. Воскрешение происходило не в отчаянии и страдании, а автоматически, ярко, как взрыв новогодней петарды.
“Исчезновение ежа – сухой выхлоп.
Кто воскрес, отряхнись, – ты весь в иглах!”
(А.Парщиков)
Момент Воскрешения рассматривался безличностно, как феномен столь же удивительный, как многое другое в Божеском мире. У Парщикова, кстати, вообще воскресает не Христос, а еж. Только у позднего Жданова появляется трагизм жертвы, страдающий за всех Бог. Причем подобная странная религиозность была для метареалистов главным окном в мир.
“То, что снаружи – крест,
то изнутри – окно,”
(И.Жданов,)
Метареализм очень смутно различал разницу между Богом-отцом и Богом-сыном, рассматривая обоих как творцов видимого для нас мира. И только. Причем метареалистические тексты в максимальном своем проявлении описывали акт творения до его окончательного оформления, “еще до взрыва...”, когда качества перепутаны одним клубком, нерасчленимы и неизвестно, сколько ипостасей понадобится Богу для их оформления.
Когда Жданов во “Взгляде” пишет, что в письменном столе кричит Иуда, это не значит, что несчастный предатель в него забрался, а значит лишь то, что дерево и человек, который на нем повесится, и письменный стол, который будет сделан из этого дерева, существуют одномоментно, в какой-то иной реальности, в прообразе и лишь потом, в условиях нашего материального мира воплотятся в отдельные предметы, сущности, события.
Это трудно понять и почувствовать, но более идеалистической школы в современной поэзии я не знаю. Часто метареалистов сравнивают с Бродским, ориентируясь на чисто внешние признаки, например, на ритмику и длину строки. Но это сравнение хромает слишком сильно, оно почти инвалид. У Бродского вместо Бога ничто, пустота, являющаяся сутью вещей. От этого — усталость лирического героя и постоянное его велеречивое брюзжание. (Я не говорю сейчас о “прямых” религиозных стихах поэта). У метареалистов на месте Бога — начало, соединяющее внутри себя вещи и качества совершенно разные.
А что же тогда с иронией, с цитатностью, которые стали общим местом для “новой поэтической волны”?
Как это ни странно, но у метареалистов “чистого замеса”, таких, как И.Жданов, В.Аристов и отчасти А.Парщиков цитат вы почти не встретите. (Это не исключает, конечно, культурных перекличек с предшествующими эпохами.) А вот у фигур “срединных” плана Еременко, работающих в том числе и с социумом, цитаты появляются в изобилии. Также, как и гротеск. Причем при продвижении к этому социуму гностическая религиозность испаряется. В стихах того же Еременко на место Бога поставлен человек, прикрутивший болтами сосны и способный даже создать “неудавшийся смысл цветка”. Так человек каким-то образом привносит свою духовность (или бездуховность) в окружающую его равнодушную природу. Почти то же делал до Еременко Андрей Платонов. До Платонова — философ Федоров...
Неудивительно, что перечисленные выше “заморочки” лишь на какое-то короткое время воспринимались публикой благосклонно. Описывая не вещь и событие, а прообраз их, метареалисты копали себе глубокую яму, в которую и свалились в начале 90-х. Смешно уповать на успех подобного идеализма в атеистическом государстве. Еще смешнее не искать в современной масс-культуре своей собственной ниши.
А такой ниши, по-видимому, и быть не может. Ведь сегодняшнее художественное бытие утверждает все то, от чего метареалисты бежали, как от чумы, — простоту, доступность, политическую спекулятивность, обозначение себя в культуре вместо “делания” и себя, и культуры... Эти параметры, кстати, характерны и для постмодернизма, который в глубинной своей сущности строится на отсутствии каких-либо предпочтений, на той идее, что в обезбоженном мире все равно всему. У метареалистов же все не равно всему хотя бы потому, что предполагается бытие Создателя сущностей. Следовательно, есть система предпочтений, шкала ценностей, вертикаль вместо горизонтали... Не какговорить, а что говорить.
В этом смысле метареализм, возможно, вообще не является частью постмодернистской культуры, вернее, стремится вырваться из ее крепких и равнодушных объятий.
А вырвавшись, остается один, обнаружив, что постмодерн и масскульт близнецы-братья...
На сегодняшний день метареализм как школа прекратил свое существование. Но люди, его создавшие, еще живы.
Они понимают, что сеяли на камне, что зерно их умерло.
Но как сказал один проповедник, если зерно умрет, то даст много плодов...
1984год январь
КОНСТАНТИН КЕДРОВ
(Первая публикация со словом МЕТАМЕТАФОРА)
В январе 1984 года я напечатал в журнале «Литературная учеба» послесловие к поэме Алексея Парщикова «Новогодние строчки». Это была первая и единственная публикация о метаметафоре. Для человека неподготовленного поэма могла показаться нарочито разбросанной, фрагментарной. На самом деле при всех своих недостатках (есть в поэме избыточная рациональность и перегруженность деталями) это произведение по-своему цельное. Ее единство — в метаметафорическом зрении. Вот почему эта поэма послужила поводом для разговора о метаметафоре.
««Новогодние строчки» А. Парщикова — это мешок игрушек, высыпающихся и заполняющих собой всю вселенную. Игрушки сотворены людьми, но в то же время они сам» как люди. Мир игрушечный — это мир настоящий, ведь играют дети — будущее настоящего мира.
В конечном итоге груды игрушек — это море, это песок это сама вселенная. Приходи, человек, твори, созидай играй, как ребенок, и радуйся сотворенному миру!
Таков общий контур поэмы. Итак, «снегурочка и петух на цепочке» обходят «за малую плату» новогодние дома. Они идут «по ободку разомкнутого циферблата», потому что стрелки на двенадцати, на Новом годе, уходящем в горловину времени.
Читатель может посочувствовать Деду Морозу, которому «щеки грызет борода на клею». Это поэт. Ему рады. «Шампанское шелестит тополиной мерцающей благодатью». И — водопад игрушек из мешка.
Часть вторая — игрушки ожили. Здесь взор поэта, его геометрическое зрение, обладающее способностью видеть мир в нескольких измерениях: «Заводная ворона, разинув клюв, таким треугольником ловит сферу земную, но сфера удваивается, и — ворона летит врассыпную».
Геометр, может, выразит это в математической формуле, но тогда не будет взора поэта. Здесь ситуация как в эпоху Возрождения. Трехмерную перспективу открыли посредственные художники, но только Леонардо, Микеланджело и Рафаэль заполнили ее живописью.
«Мир делится на человека, а умножается на все остальное» — вот ключ к поэме. Как ни разлагай мир скальпелем рассудка, познание невозможно без человека, а человек тот первоатом, который «умножаем» на все. Об этом часть третья.
Вот тут-то и пошли причудливые изменения: животные, напоминающие «Зверинец» Велимира Хлебникова. У Хлебникова в зверях погибают неслыханные возможности. Звери — тайнопись мира. У Парщикова эта тайнопись по-детски мила: «Кошка — живое стекло, закопченное адом; дельфин — долька моря». Обратите внимание — мир не делится. Животное — это долька моря. Такая монолитность мира при всем его сказочном многообразии и многовидении для Парщикова весьма характерна. Геометр знает, как точку преобразовать в линию, линию в плоскость, плоскость в объем... Парщиков видит, как дельфин становится морем, а море — дельфином. Море — мешок, дельфин — игрушка, таких игрушек бесконечное множество, но все они в едином звездном мешке, и вселенная в них. Вот почему «собака, верблюд и курица — все святые». Уничтожьте дельфина, погибнет море.
Следующая часть IV, основная. Кроме геометрии, есть Нарцисс, путающий нож и зеркало, режущий зеркалом рыбу. Этот Нарцисс, несомненно, поэт. Я мог бы объяснить, что в нож можно глядеться, как в зеркало, а зеркалом резать; что в конечном итоге зеркало — это срез зрения, а плоскость отражения можно сузить до лезвия ножа, и тогда мир предстанет таким, как видит его Парщиков в поэме, но мне здесь интересно совсем другое: что творится в душе у этого человека? О чем он хочет нам рассказать?
Вот огородное чучело в джинсах, в болонье, голова — вращающийся пропеллер. Это пугало должно сторожить огород, скорее — кладбище. Сам поэт, покидая пугала смерти, идет к жизни на берег моря. похожий на бесконечную свалку, но из мировой свалки он воздвигает свой мир, как детишки делают домики из песка. Этот мир будет хрупок и разрушим, как все живое, но он живой, не пластмассовый, не синтетический, как пугала в огороде.
Я миную лирические и биографические намеки, за которыми угадывается любовь. Если поэт сам об этом говорить не хочет, то и я промолчу.
Итак — итог. Парщиков — один из создателей метаметафоры, метафоры, где каждая вещь — вселенная.
Такой метафоры раньше не было. Раньше все сравнивали. Поэт как солнце, или как река, или как трамвай. У Парщикова не сравнение, не уподобление. Он и есть все то, о чем пишет. Здесь нет дерева отдельно от земли, земли отдельно от неба, неба отдельно от космоса, космоса отдельно от человека. Это зрение человека вселенной. Это метаметафора.
Метаметафора отличается от метафоры как метагалактика от галактики. Привыкайте к метаметафорическому зрению, и глаз ваш увидит в тысячу раз больше, чем видел раньше.
За этим послесловием полгода спустя последовала статья Сергея Чупринина в «Литературной газете» «Что за новизною?», а затем развернулась бурная дискуссия, не затихающая и по сей день. Заговор молчания вокруг поэзии Парщикова, Еременко и Жданова был наконец-то нарушен.
***
КОНСТАНТИН КЕДРОВ
(Из книги Энциклопедия метаметафоры"М.2000 ДООС
Метаметафора. Отличается от метафоры, как метагалактика от галактики, физика от метафизики. Впервые появилась в виде формулы Эйнштейна, очерчивающей всю вселенную: Е=mс2. Название впервые было предложено мной в предисловии к поэме «Новогодние строчки»: «Метаметафора Алексея Парщикова» («Литературная учеба», 1984, № 1).. «Привыкайте к метаметафоре. Она бесконечно расширит пределы вашего зрения, — писал я тогда. — В метаметафоре нет человека отдельно от вселенной. Здесь все есть все. «Дельфин — это долька моря». Здесь бреются, глядя в лезвие ножа, как в зеркало, поскольку зеркало может сузиться до острия лезвия при полете со скоростью света». Первое описание метаметафоры дано в книге Павла Флоренского «Мнимости в геометрии», где в финале говорится, что всякое тело, приближаясь к скорости света, обретает свою бесконечную сущность, превращаясь в платоновский эйдос. Флоренский верит больше формуле Лоренца, чем формуле Эйнштейна, поскольку у Эйнштейна сжимается пространство — время, а у Лоренца по мере приближения к скорости света деформируется тело. Тем не менее, в главном Флоренский не ошибся и приблизился к выворачиванию, утверждая. что при скорости большей, чем скорость света (чего физически быть не может) тело «вывернется через себя» во вселенную и станет ею, обретя бесконечность. Эти сверхсветовые бесконечные сущности Флоренский считал платоновскими эйдосами. В таком случае, метаметафора — это зримый эйдос. Моя первая метаметафора возникла в поэме «Бесконечная» (1960). Метаметафора не возможна без выворачивания, но человеку не надо мчаться со скоростью света, поскольку его мысли и чувства способны моделировать любые состояния вселенной. Можно сказать, что метаметафора — это зрение света, мчащегося со скоростью 300000 км/сек2. Метаметафора возникает вместе со Словом: «И сказал Бог: «Да будет свет». Метаметафора как выворачивание может осуществляться в палиндроме и анаграмме, а также в неожиданных грамматических сдвигах (см. «Верфлием»). Метаметафора не самоцель поэзии, а её неизбежное следствие в конце ХХ века.
Метаметафористы. Так после моей статьи «Метаметафора Алексея Парщикова»(1984 г. Литературная Учеба №1.) стали называть поэтов Алексея Парщикова, Александра Еременко и Ивана Жданова.
***
1989 год
***
КОНСТАНТИН КЕДРОВА
(Из книги "Поэтический космос"М.Советский Писатель 1989г.)
РОЖДЕНИЕ МЕТАМЕТАФОРЫ
Мы – метаметафористы
Данте опускается в глубины ада, и вдруг словно перекручиваются круги схождения, образуя все ту же ленту Мёбиуса, и ослепительный свет в лицо.
Я увидал, объят высоким светом
И в ясную глубинность погружен,
Три равномерных круга, разных цветом.
Один другим, казалось, отражен.
Время как бы свернулось в единое бесконечное мгновение, как в первый миг «сотворения» нашего мира из не раз¬личимого взором сгущения света.
Единый миг мне большей бездной стал,
Чем двадцать пять веков…
Это был момент – инсайдаут. Внутреннее и внешнее поменялись местами:
Как геометр, напрягший все старанья,
Чтобы измерить круг, схватить умом...
Таков был я при новом диве том:
Хотел постичь, как сочетанны были
Лицо и круг в слиянии споем...
Геометрическое диво, которое видит Данте, сочетание лица и круга, невозможно в обычной евклидовой геомет¬рии. О неевклидовом зрении Данте много раз говорил Павел Флоренский. И неудивительно. Ведь П. Флорен¬ский открыл внутреннюю сферическую перспективу в византийской архитектуре и древнерусской живописи.
При проекции на сферу точка перспективы не в глубине картины, а опрокидывается внутрь глаза. Изображение как бы обнимает вас справа и слева — вы оказываетесь внутри иконы. Такой же сферой нас охватывают округлые стены и купола соборов, и именно так же видит человек небо. Это сфера внутри — гиперсфера, где верны законы геометрии Н. Лобачевского, — мир специальной теории относительности. Если же выйти из храма и взглянуть на те же купола извне, мы увидим сферическую перспективу общей теории относительности.
Человеческий глаз изнутри — гиперсфера, снаружи — сфера, совместив две проекции, мы смогли бы получить внутренне-внешнее изображение мира. Нечто подобное и видит Данте в финале «Божественной комедии». Лик внутри трех огненных кругов одновременно находится снаружи, а сами круги переплетены. Это значит, что постоянно меняется кривизна сияющей сферы — она дышит. Вдох — сфера Римана, выдох — гиперсфера Лобачевского и обратная перспектива Флоренского.
Представьте себе дышащий зеркальный царь и свое отражение в нем – вот что увидел Данте. Вот вам и сфера, «где центр везде, а окружность нигде», и еще точка Алеф из рассказа Борхеса: «В диаметре Алеф имел два-три сантиметра, но было в нем пространство вселенной, причем ничуть не уменьшенное. Каждый предмет, например стеклянное зеркало, был бесконечным множеством предметов, потому что я его ясно видел со всех точек вселенной».
Внутренне-внешняя перспектива появилась в живописи начала века. Вот картина А. Лентулова «Иверская часовня». Художник вывернул пространство часовни наружу, а внешний вид ее поместил внутри наружного изображения. По законам обратной перспективы вас обнимает внутреннее пространство Иверской часовни, вы внутри него, хотя стоите перед картиной, а там, в глубине картины видите ту же часовню извне с входом и куполами.
Метаметафора дает нам такое зрение!
Она еще только рождается, вызревает в нас, как зерно, но первые ростки начали появляться.
Дети стоят, их мускулы напряжены,
Их уши в отечных дежках.
Из мешка вываливаются игрушки...
Вылезай на свет из угла мешка...
Заводная ворона, разинув клюв,
Таким треугольником ловит сферу земную,
Но сфера удваивается, и — ворона летит врассыпную.
Корабль меньше сабли, сабля больше города,
Все меньше, чем я,— куда там Свифт!..
Мир делится на человека, а умножается на все остальное.
(А. Парщиков)
В старинной космографии Козьмы Индикоплова земля изображена как гора внутри хрустального сундука небес. Выйти из этого хрустального сундука — значит обрести пространство иной вселенной. С героем Хармса это происходит по законам геометрии многих измерений.
«Человек с тонкой шеей забрался в сундук и начал задыхаться. Вот,— говорил, задыхаясь, человек с тонкой шеей. — Я задыхаюсь в сундуке, потому что у меня тонкая шея.
Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха. Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти. Бой произойдет неестественный, при равных шансах, потому что естественно побеждает смерть, а жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется с врагом до последней минуты не теряя напрасно надежды. В этой же борьбе, которая произойдет сейчас, жизнь будет знать способ своей победы: для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука.
Посмотрим: кто кого? Только вот ужасно пахнет нафталином.
Если победит жизнь, я буду вещи в сундуке пересыпать махоркой...
Вот началось: я больше не могу дышать. Я погиб, это ясно! Мне уже нет спасения! И ничего возвышенного нет в моей голове. Я задыхаюсь!
Ой! Что же это такое? Сейчас что-то произошло, я не могу понять, что именно. Я что-то видел или что-то слышал...
Ой! Опять что-то произошло! Боже мой! Мне нечем дышать. Я, кажется, умираю... А это еще что такое? Почему пою?
Кажется, у меня болит шея...
Но где же сундук?
Почему я вижу все, что находится у меня в комнате?
Да никак я лежу на полу!
А где же сундук?
Человек с тонкой шеей сказал:
— Значит, жизнь победит смерть неизвестным для меня способом».
Такое выворачивание вполне возможно при соприкосновении нашего пространства трех измерений с пространством четырехмерным. Объясню это по аналогии перехода от двухмерности к трехмерности. Начертим плоский двухмерный сундук и поместим в него, вырезав из бумаги, плоского двухмерного героя. Разумеется, на плоскости ему не выйти из замкнутого контура; но нам с вами ничего не стоит вынести плоскатика из плоского сундука, а затем положить его рядом с тем сундуком на той же плоскости. Двухмерный человек так и не поймет, что случилось. Ведь он не видит третье, объемное измерение, как мы не видим четвертого измерения.
Всякое описание антропной инверсии в поэзии от Низами до Данте, от Аввакума до В. Хлебникова, от В. Хлебникова до Д. Хармса с поэтической точки зрения есть движение к метаметафоре.
И все же метаметафора — детище XX века.
Рождение метаметафоры — это выход из трехмерной бочки Гвидона в океан тысячи измерений.
Надо было сделать какой-то шаг, от чего-то освободиться. может быть, преодолеть психологический барьер, чтобы найти слова, хотя бы для себя, четко очерчивающие новую реальность.
Однажды я сделал этот мысленный шаг и ощутил себя в том пространстве:
Человек оглянулся и увидел себя в себе.
Это было давно, в очень прошлом было давно.
Человек был другой, и другой был тоже другой,
Так они оглянулись, спрашивая друг друга.
Кто-то спрашивал, но ему отвечал другой,
И слушал уже другой,
И никто не мог понять,
Кто прошлый кто настоящий.
Человек оглянулся и увидел себя в себе...
Я вышел к себе
Через — навстречу — от
И ушел под, воздвигая над.
(К. К. 1963)
Эти слова никто не мог в то время услышать. Передо мной распахнулась горизонтальная бездна непонимания, и только в 1975 году я встретил единомышленников среди молодых поэтов нового, тогда еще никому не известного поколения. Алексей Парщиков, Александр Еременко, Иван Жданов не примыкали ни к каким литературным группировкам и стойбищам. Я сразу узнал в них граждан поэтического «государства времени», где Велимир Хлебников был председателем Земного шара. Хотя стихи их были ближе к раннему Заболоцкому, Пастернаку и Мандельштаму периода гениальных восьмистиший.
Еще до взрыва свечи сожжены
И в полплеча развернуто пространство;
Там не было спины, как у луны,
Лишь на губах собачье постоянство.
(А. Парщиков)
Это разворачивалось снова пространство Н. Лобачевского и А. Эйнштейна, казалось бы, навсегда упрятанное в кондовый, отнюдь не хрустальный сундук закалдыченного стихосложения: «Я загляделся в тридевять зеркал. Несовпаденье лиц и совпаденье...»
Еще слышались знакомые поэтические интонации, но «тридевять зеркал» будущей метаметафоры приоткрывали свои прозрачные перспективы. «Несовпаденье лиц и совпаденье» словно вернуло меня к исходной точке 1963 года, когда «человек оглянулся и увидел себя в себе». Все началось как бы заново. Не знаю, где я больше читал лекций в то время: в Литературном институте или у себя за столом, где размещалась метаметафорическая троица. Содержание тех домашних семинаров станет известно каждому, кто прочтет эту книгу.
Чтобы передать атмосферу этих бесед, приведу такой эпизод.
Как-то мы обсуждали статью психолога, утверждавшего, что человек видит мир объемно, трехмерно благодаря тому, что у него два глаза. Если бы глаз был один, мир предстал бы перед нами в плоском изображении.
Вскоре после этого разговора Александр Еременко уехал в Саратов. Затем оттуда пришло письмо. Еременко писал, что он завязал один глаз и заткнул одно ухо, дабы видеть и слышать мир двухмерно — плоско, чтобы потом внезапно скинуть повязку, прозреть, перейдя от двухмерного мира к объему. Так по аналогии с переходом от плоскости к объему поэт хотел почувствовать, что такое четырехмерность.
Разумеется, все это шутки, но сама проблема, конечно, была серьезной. Переход от плоского двухмерного видения к объему был грандиозным взрывом в искусстве. Об этом писал еще кинорежиссер С. Эйзенштейн в книге «Неравнодушная природа». Плоскостное изображение древнеегипетских фресок, где люди подобно плоскатикам повернуты к нам птичьим профилем, вдруг обрели бездонную даль объема в фресках Микеланджело и Леонардо. Понадобилось две тысячи лет, чтобы от плоскости перейти к объему. Сколько же понадобится для перехода к четырехмерию?
Я написал в то время два стиха, где переход от плоскости к объему проигрывается как некая репетиция перед выходом в четвертое измерение.
ПУТНИК
О сиреневый путник
это ты это я
о плоский сиреневый странник
это я ему отвечаю
он китайская тень на стене горизонта заката
он в объем вырастает
разрастается мне навстречу
весь сиреневый мир заполняет
сквозь меня он проходит
я в нем заблудился
идя к горизонту
а он разрастаясь
давно позади остался
и вот он идет мне навстречу
Вдруг я понял что мне не догнать ни себя ни его
надо в плоскость уйти безвозвратно
раствориться в себе и остаться внутри горизонта
О сиреневый странник ты мне бесконечно знаком —
как весы пара глупых ключиц между правым и левым
для бумажных теней чтобы взвешивать плоский закат.
(К. К. 1976)
Снова и снова прокручивалась идея: можно ли, оставаясь существом трехмерным, отразить в себе четвертое измерение? Задача была поставлена еще А. Эйнштейном и Велимиром Хлебниковым. А. Эйнштейн считал, как мы помним, что человек не может преодолеть барьер. В. Хлебников еще до Эйнштейна рванулся к «доломерию Лобачевского».
Так возникла в моем сознании двухмерная плоскость, вмещающая в себя весь бесконечный объем, — это зеркало. Я шел за Хлебниковым, пытаясь проникнуть в космическое нутро звука. И вот первое, может быть, даже чисто экспериментальное решение, где звук вывернулся вместе с отражением до горловины зеркальной чаши у ноты «ре» и дал симметричное отражение. Таким образом, текст читается одинаково и от начала по направлению к центру — горловине зеркальной чаши света до ноты «ре». Интересно, что нотный провал между верхней и нижней «ре» отражает реальный перепад в звуковом спектре, там нет диезов и бемолей.
ЗЕРКАЛО
Зеркало
Лекало
Звука
Ввысь
|застынь
стань
тон
нег тебя
ты весь
высь
вынь себя
сам собой бейся босой
осой
ссс — ззз
Озеро разреза
лекало лика
о плоскость лица
разбейся
;то пол потолка
без зрака
а мрак
мерк
и рек
ре
до
си
ля
соль
фа
ми
ре
и рек
мерк
а мрак
беэ зрака
то пол потолка
разбейся
о плоскость лица
лекало лика
озеро разреза
ссс — ззз
осой
Сам собой бейся босой
вынь себя
высь
ты весь
нет тебя
тон
стань
застынь
ввысь
звука
лекало
зеркало.
(К. К. 1977)
И в поэзии Ивана Жданова зеркало — ключевой образ — это некая запредельная плоскость. Войти в нее — значит преодолеть очевидность мира трех измерений. Внезапный взрыв, озарение, и «сквозь зеркало уйдет незримая рука». Зеркала в его поэзии «мелеют», «вспахиваются», окружают человека со всех сторон: «Мы входим в куб зеркальный изнутри...» Тайна зеркал пронизывает культуру, но вспахать поверхность отражения ранее никто не догадывался. Совершенно ясно, что у Жданова зеркальность не отражение, а выворачивание в иные космологические миры:
Мелеют зеркала, и кукольные тени
Их переходят вброд, и сразу пять кровей,
Как пятью перст — рука забытых отражений
Морочат лунный гнет бесплотностью своей.
Эти образы похожи на платоновские «эйдосы». С одной стороны, как бы иллюзорны, а с другой — реальны, как «лунный гнет». Лунный — невесомо, прозрачно; гнет — еще как весомо. Здесь небесный гром и подземный гул слиты вместе. Возникает некая третья реальность мира, преломленного ввысь так, что дождь лезет из земли к небу.
Вот так перед толчком подземной пастью всею
Вдруг набухает кот, катая вой в пыли,
Закрытый гром дробит зеркальный щит Персея,
И воскресает дождь, и рвется из земли.
Иногда мне кажется, что в поэзии Жданова ожил магический театр зеркал Гессе, а тот в свою очередь восходит корнями к иллюзиону элевсинских мистерий Древней Греции. Там надо было умереть в отражении, чтобы воскреснуть в преломленном луче.
Вот-вот переведут свой слабый дух качели
И рябью подо льдом утешится река,
И, плачем смущена, из колыбельной щели
Сквозь зеркало уйдет незримая рука.
И все же в зеркалах есть какая-то избыточная реальность. Само отражение настолько многозначительно, что поэту уже вроде бы и делать нечего. Стоишь перед зеркалом, как перед наглядным пособием по бессмертию... И потом опять же плоскость — объем: знакомые оппозиции.
Вот если бы зеркало могло отражать внутреннее, как внешнее — глянул и оказался над мирозданием. Как в стихотворении «Взгляд» у Ивана Жданова:
Был послан взгляд — и дерево застыло.
Пчела внутри себя перелетела
через цветок, и, падая в себя,
вдруг хрустнул камень под ногой и смолк.
Произошло выворачивание, и мы оказались внутри надкусанного яблока. Перспектива переместилась внутрь, как до грехопадения Адама.
Надрезана кора, но сок не каплет
и яблоко надкусанное цело.
Внутренняя, говоря словами Павла Флоренского, «обратная» перспектива наконец-то открылась в поэзии. Вот как выглядит мир при взгляде из внутренне-внешнего зазеркалья:
Внутри деревьев падает листва
на дно глазное, в ощущенье снега,
где день и ночь зима, зима, зима.
В сугробах взгляда крылья насекомых,
и в яблоке румяно-ледяном,
как семечки, чернеет Млечный Путь.
Вокруг него оскомина парит,
и вместе с муравьиным осязаньем
оно кольцо срывает со зрачка.
В воронке взгляда гибнет муравей,
в снегу сыпучем простирая лапки
к поверхности, которой больше нет.
Яблоко, вместившее в себя весь Млечный Путь, вселенная, окруженная оскоминой, срывающей кольцо со зрачка. и уже знакомая нам воронка взгляда, конусом восходящая к опрокинутому муравью, ощупывающему лапками неведомую ему бесконечность,— все это образы антропной инверсии — метаметафора.
Так, проходя по всем кругам метаметафорического мышления от чистого рацио до прозрачно-интуитивного, я словно входил в лабораторию метаметафоры, стремясь быть — в меру моих возможностей — ее объективным исследователем, совмещая в себе «актера» и «зрителя». Разумеется, не мне, а читателю судить о том, что воплотилось в поэзию, а что осталось в области чистой филологии. Но для меня это единое целое, позволяющее выверить точность моих космологических интуиции.
Вернусь снова к образу человека внутри мироздания. Вспомним здесь державинское «я червь — я раб — я бог». Если весь космос — яблоко, а человек внутри... А что если червь, вывернувшись наизнанку, вместит изнутри все яблоко? Ведь ползает гусеница по листу, а потом закуклится, вывернется, станет бабочкой. Слова «червь» и «чрево» анаграммно вывернулись друг в друга. Так появился анаграммный образ антропной инверсии человека и космоса.
Червь,
вывернувшись наизнанку чревом,
в себя вмещает яблоко и древо.
(К. К.)
Так возник соответствующий по форме метаметафоре анаграммный стих. В анаграммном стихе ключевые слова «червь — чрево» разворачивают свою семантику по всему пространству, становятся блуждающим центром хрустального глобуса.
Ключевое слово можно уподобить точке Альфа, восходящей при выворачивании к точке Омега. Естественно, что такой стих даже внешне больше похож на световой конус мировых событий, нежели на кирпичики.
Мир окончательно утратил былую иллюзорную стабильность, когда отдельно — человек, отдельно — вселенная. Теперь, если вспомнить финал шекспировской «Бури»: жизнь — сцена, а люди — актеры, ситуация значительно изменилась. После космической инверсии — «Ты — сцена и актер в пустующем театре...» (И. Жданов)
Неудивительно, что в таком метаметафорическом мире, а другого, собственно говоря, и нет, местоположение сцены — мироздания и партера — земли резко изменяется, как это уже произошло в космологии, при переходе от вселенной Ньютона к вселенной Эйнштейна.
И вот уже партер перерастает в гору,
Подножием свои полсцены охватив.
(И. Жданов)
Не на той ли горе находился тогда и Александр Еременко, когда в поэме «Иерониму Босху, изобретателю прожектора» написал: «Я сидел на горе, нарисованной там, где гора». От этого образа веет новой реальностью «расслоенных пространств», открытых современной космологией. Сидеть на горе, нарисованной там, где гора, значит пребывать во вселенной, находящейся там, где в расслоенном виде другая вселенная. Так в японских гравюрах таится объем, преображенный в плоскость.
У Александра Еременко выворачивание есть некое движение вспять, поперек космологической оси времени к изначальному нулю, откуда 19 миллиардов лет назад спроецировалась вселенная. Для того чтобы туда войти, надо много раз умереть, пережив все предшествующие смерти, углубившись в недра материи глубже самой могилы.
Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил,
Что мой взгляд, прежде чем добежать до тебя, раздвоится,
Мы сейчас, как всегда, разыграем комедию в лицах.
Тебя не было вовсе, и значит, я тоже не был.
Надо сказать, что освоение нулевого пространства сингулярности, весьма популярное среди молодежи, для европейской культуры, не говоря уже о восточной, совсем не ново. Нирвана, дзэн- буддизм, отрицательное богословие, философия Нагаруджаны, экзистенциальный мир Сартра, Камю... Однако там все зиждется на мировоззрении, не преображенного зрения.
Нулевое пространство вздимопоглощаемых перспектив в поэзии Александра Еременко — это не мировоззрение, а иное видение. Нуль — весьма осязаемая реальность. Есть частицы с массой покоя, равной нулю,— это фотон, то есть свет. Масса вселенной в среднем тоже равна нулю. В геометрическом нуле таятся вселенные «расслоенных пространств», неудивительно, что поэтическое зрение, выворачиваясь сквозь нуль, проникает к новой реальности.
Я, конечно, найду, в этом хламе, летящем в глаза,
Надлежащий конфликт, отвечающий заданной схеме,
Так, всплывая со дна, треугольник к своей теореме
Прилипает навечно. Тебя надо еще доказать.
(А. Еременко)
Тут очень важен ход поэтического «доказательства» новой реальности, когда метаметафора, дойдя до расслоенных пространств зрительной перспективы, находит уже знакомую нам по началу главы расслоенную семантику в слове «форма». Сначала, вывернувшись наизнанку, корень слова «морфема» дает корень для слова «форма»: морф — форм, а затем на их стыке возникает некая замораживающая привычную боль семантика слова «морфий».
Тебя надо увешать каким-то набором морфем
(В ослепительной форме осы заблудившийся морфий),
Чтоб узнали тебя, каждый раз в соответственной форме,
Обладатели тел. Взгляд вернулся к начальной строке.
Интересно, что и у А. Парщикова анаграммное выворачивание появляется в момент взрыва от небытия, нуля, «вакуума» до наивысшей точки кипения жизни — «Аввакума»:
Трепетал воздух,
Примиряя нас с вакуумом,
Аввакума с Никоном.
«Аввакум» — «вакуум» — две вывернутые взаимопротивоположные реальности, как Никон и Аввакум.
Анаграммная семантика значительно раздвинула горизонты поэтического слова. Так, у Ивана Жданова расслаиваются пространства: «слова и славы», «выси и взвеси».
МАТЬ
За звуковым барьером, в слоеном сугробе агоний
луна обтянута кожей молящей твоей ладони...
Развяжешь верхнюю воду камерных длин бытия —
На покрова вернется тополиная свадьба твоя.
Шепот ночной трубы на свету обратится в слово,
Сфера прошелестит смальтой древесной славы,
Кубических облаков преобразится взвесь.
Миру простится гнет. Небу простится высь.
Узнаете светящуюся сферу? Конус трубы, преодоленное тяготение — «гнет» и прощенная «высь». Можно сказать, здесь вся азбука метакода; но все это внутренне присуще Ивану Жданову, это его затаенный, глубинный мир.
В 1978 году мне удалось впервые представить Парщикова, Еременко и Жданова на вечере в Каминном зале ЦДРИ. Зрители — в основном студенты Литинститута. Очень хорошо помню, что читал Жданов.
Море, что зажато в клювах птиц,— дождь.
Небо, помещенное в звезду,— ночь.
Дерева невыполнимый жест — вихрь.
Душами разорванный квадрат — крест,
Дерева, идущего на крест,— срез.
Дерева срывающийся жест — лист.
Небо, развернувшее звезду,— свет.
Небо, разрывающее нас,— крест.
Парщиков прочел «Угольную элегию». Там знакомый мотив — Иосиф в глубине колодца. Выход из штольни к небу сквозь слои антрацита и темноту вычерчен детским взором к небу:
Подземелье висит на фонарном лучике,
отцентрированном, как сигнал в наушнике.
В рассекаемых глыбах — древние звери,
подключенные шерстью к начальной вере.
И углем по углю на стенке штольни
я вывел в потемках клубок узора —
что получилось, и это что-то,
не разбуженное долбежом отбора,
убежало вспыхнувшей паутинкой
к выходу, и выше и... вспомни: к стаду
дитя приближается, и в новинку
путь и движение ока к небу.
Мне кажется, в этом стихотворении есть и биографические мотивы. Все мы чувствовали себя словно погребенными в какой-то глубокой штольне. Где-то там, в бездонной вышине, за тысячами слоев и напластований наш потенциальный читатель, но как пробиться к нему?
Долгое время я был едва ли не единственным благожелательным критиком трех поэтов. Однако после вечера в ЦДРИ лед потихоньку тронулся. Прошло пять лет, и вот уже Иван Жданов дарит мне сборник «Портрет» с шутливой надписью: «Константину Кедрову — организатору и вдохновителю всех наших побед. 1983 г., январь».
Какой-то метафизический озноб проходит по сердцу, когда читаешь такие строки:
Потомок гидравлической Арахны,
персидской дратвой он сшивает стены,
бросает шахматную доску на пол.
Собачий воздух лает в погребенье.
От внешней крови обмирает вопль.
(И. Жданов)
«Внешняя кровь» — это выворачивание, обретение новых «расслоенных пространств» в привычном «зеркальном кубе» нашего мира.
Один знакомый математик сказал мне однажды:
— Когда я читаю нынешнюю печатную поэзию, всегда преследует мысль, до чего же примитивны эти стихи по сравнению с теорией относительности, а вот о вашей поэзии я этого сказать не могу.
Под словом «ваша» он подразумевал поэтов метаметафоры. Само слово «метаметафора» возникло в моем сознании после термина «метакод». Я видел тонкую лунную нить между двумя понятиями.
Дальше пошли истолкования.
— Метаметафора — это метафора в квадрате?
— Нет, приставка «мета» означает «после».
— Значит, после обычной метафоры, вслед за ней возникает метаметафора?
— Совсем не то. Есть физика и есть метафизика — область потустороннего, запредельного, метаметафорического.
— Метагалактика — это все галактики, метавселенная — это все вселенные, значит, метаметафора — это вселенское зрение.
— Метаметафора — это поэтическое отражение вселенского метакода...
Все это верно. Однако термин есть термин, пусть себе живет. Мы-то знаем, что и символисты не символисты, и декаденты не декаденты. «Импрессионизм» — хорошее слово, но что общего между Ренуаром и Клодом Моне. Слова нужны, чтобы обозначить новое. Только обозначить, и все. Дальше, как правило, следует поток обвинений со стороны рассерженных обывателей. Символизм, декадентство, импрессионизм, дадаизм, футуризм — это слова-ругательства для подавляющего большинства современников.
Приходит время, и вот уже, простираясь ниц перед символизмом или акмеизмом, новые критики употребляют слово «метаметафора» как обвинение в причастности к тайному заговору разрушителей языка и культуры.
Наполеон III с прямолинейной солдатской простотой огрел хлыстом картину импрессиониста Мане «Завтрак на траве». Достойный поступок императора, у которого министром иностранных дел был Дантес — убийца Пушкина.
Нынешние «дантесы» и «наполеоны малые» (термин В. Гюго) предпочитают выстрел из-за угла... Движение в пространстве Н. Лобачевского остановить уже невозможно.
Все злее мы гнали, пока из прошлого
Такая картина нас нагнала:
Клином в зенит уходили лошади,
для поцелуя вытягивая тела.
(А. Парщиков)
В январе 1984 года я напечатал в журнале «Литературная учеба» послесловие к поэме Алексея Парщикова «Новогодние строчки». Это была первая и единственная публикация о метаметафоре. Для человека неподготовленного поэма могла показаться нарочито разбросанной, фрагментарной. На самом деле при всех своих недостатках (есть в поэме избыточная рациональность и перегруженность деталями) это произведение по-своему цельное. Ее единство — в метаметафорическом зрении. Вот почему эта поэма послужила поводом для разговора о метаметафоре.
««Новогодние строчки» А. Парщикова — это мешок игрушек, высыпающихся и заполняющих собой всю вселенную. Игрушки сотворены людьми, но в то же время они сам» как люди. Мир игрушечный — это мир настоящий, ведь играют дети — будущее настоящего мира.
В конечном итоге груды игрушек — это море, это песок это сама вселенная. Приходи, человек, твори, созидай играй, как ребенок, и радуйся сотворенному миру!
Таков общий контур поэмы. Итак, «снегурочка и петух на цепочке» обходят «за малую плату» новогодние дома. Они идут «по ободку разомкнутого циферблата», потому что стрелки на двенадцати, на Новом годе, уходящем в горловину времени.
Читатель может посочувствовать Деду Морозу, которому «щеки грызет борода на клею». Это поэт. Ему рады. «Шампанское шелестит тополиной мерцающей благодатью». И — водопад игрушек из мешка.
Часть вторая — игрушки ожили. Здесь взор поэта, его геометрическое зрение, обладающее способностью видеть мир в нескольких измерениях: «Заводная ворона, разинув клюв, таким треугольником ловит сферу земную, но сфера удваивается, и — ворона летит врассыпную».
Геометр, может, выразит это в математической формуле, но тогда не будет взора поэта. Здесь ситуация как в эпоху Возрождения. Трехмерную перспективу открыли посредственные художники, но только Леонардо, Микеланджело и Рафаэль заполнили ее живописью.
«Мир делится на человека, а умножается на все остальное» — вот ключ к поэме. Как ни разлагай мир скальпелем рассудка, познание невозможно без человека, а человек тот первоатом, который «умножаем» на все. Об этом часть третья.
Вот тут-то и пошли причудливые изменения: животные, напоминающие «Зверинец» Велимира Хлебникова. У Хлебникова в зверях погибают неслыханные возможности. Звери — тайнопись мира. У Парщикова эта тайнопись по-детски мила: «Кошка — живое стекло, закопченное адом; дельфин — долька моря». Обратите внимание — мир не делится. Животное — это долька моря. Такая монолитность мира при всем его сказочном многообразии и многовидении для Парщикова весьма характерна. Геометр знает, как точку преобразовать в линию, линию в плоскость, плоскость в объем... Парщиков видит, как дельфин становится морем, а море — дельфином. Море — мешок, дельфин — игрушка, таких игрушек бесконечное множество, но все они в едином звездном мешке, и вселенная в них. Вот почему «собака, верблюд и курица — все святые». Уничтожьте дельфина, погибнет море.
Следующая часть IV, основная. Кроме геометрии, есть Нарцисс, путающий нож и зеркало, режущий зеркалом рыбу. Этот Нарцисс, несомненно, поэт. Я мог бы объяснить, что в нож можно глядеться, как в зеркало, а зеркалом резать; что в конечном итоге зеркало — это срез зрения, а плоскость отражения можно сузить до лезвия ножа, и тогда мир предстанет таким, как видит его Парщиков в поэме, но мне здесь интересно совсем другое: что творится в душе у этого человека? О чем он хочет нам рассказать?
Вот огородное чучело в джинсах, в болонье, голова — вращающийся пропеллер. Это пугало должно сторожить огород, скорее — кладбище. Сам поэт, покидая пугала смерти, идет к жизни на берег моря. похожий на бесконечную свалку, но из мировой свалки он воздвигает свой мир, как детишки делают домики из песка. Этот мир будет хрупок и разрушим, как все живое, но он живой, не пластмассовый, не синтетический, как пугала в огороде.
Я миную лирические и биографические намеки, за которыми угадывается любовь. Если поэт сам об этом говорить не хочет, то и я промолчу.
Итак — итог. Парщиков — один из создателей метаметафоры, метафоры, где каждая вещь — вселенная.
Такой метафоры раньше не было. Раньше все сравнивали. Поэт как солнце, или как река, или как трамвай. У Парщикова не сравнение, не уподобление. Он и есть все то, о чем пишет. Здесь нет дерева отдельно от земли, земли отдельно от неба, неба отдельно от космоса, космоса отдельно от человека. Это зрение человека вселенной. Это метаметафора.
Метаметафора отличается от метафоры как метагалактика от галактики. Привыкайте к метаметафорическому зрению, и глаз ваш увидит в тысячу раз больше, чем видел раньше.
За этим послесловием полгода спустя последовала статья Сергея Чупринина в «Литературной газете» «Что за новизною?», а затем развернулась бурная дискуссия, не затихающая и по сей день. Заговор молчания вокруг поэзии Парщикова, Еременко и Жданова был наконец-то нарушен.
Брошена техника, люди —
как на кукане, связаны температурой тел,
Но очнутся войска, доберись хоть один
до двенадцатислойных стен
идеального города, и выспись на чистом, и стань — херувим.
Новым зреньем обводит нас текст
и от лиц наших неотделим. (А. Парщиков)
Новый небесный град поэзии, воздвигнутый из сияющих слов и «двенадцатислойных стен», еще не обжитой. Кому-то в нем неуютно, кто-то предпочитает четырехстенный четырехстопный ямб, о котором еще Пушкин сказал: «Четырехстопный ямб мне надоел». Кто-то верит, что земля всего лишь кругла.
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна,
На этом глупом небосклоне.
Метаметафористы видят землю иначе.
Земля конусообразна
И поставлена на острие,
Острие скользит по змее,
Надежда напрасна.
Товарняки, словно скорость набирая,
На месте приплясывали в тупике,
А две молекулярных двойных спирали
В людей играли невдалеке.
(А. Парщиков)
Честно говоря, я понимаю, что все эти конусы, двойные спирали, восьмерки выворачивания уже примелькались в глазах читателя. Но это архетипы реальности мироздания.
Интуитивное осмысление этого и привело меня к созданию неожиданного на первый взгляд текста:
Невеста, лохматая светом,
невесомые лестницы скачут,
она плавную дрожь удочеряет,
она петли дверные вяжет
стругает свое отраженье,
голос, сорванный с древа,
держит горлом — вкушает
либо белую плаху глотает,
на червивом батуте пляшет,
ширеет ширмой, мерцает медом
под бедром топора ночцого,
она пальчики человечит,
рубит скорбную скрипку,
тонет в дыре деревянной.
Саркофаг, щебечущий вихрем
хор, бедреющий саркофагом,
дивным ладаном захлебнется
голодающий жернов «восемь»,
перемалывающий храмы
Что ты, дочь, обнаженная, или ты ничья?
Или, звеня сосками, месит сирень
турбобур непролазного света?
В холеный футляр двоебедрой секиры
можно вкладывать только себя.
(К. К.)
Я писал это в 1978 году, когда не было теории метаметафоры, но уже зарождалась метаметафора.
«Двоебедрая секира» — месяц умирающий и воскресающий; невеста, лохматая светом,— комета, она же звезда Венера и Богородица — «невестна не невестная». В акафисте поется: «Радуйся, лестница от земли к небу»,— вот почему «невесомые лестницы скачут».
«Дыра деревянная» — в середине вывернутой скрипки Пикассо — черная дыра во вселенной; холеный футляр двоебедрой секиры — все мироздание; скрипка — образ вечной женственности, пляска на червивом батуте — попрание смерти. Вязать дверные петли можно только вывернув наизнанку «микромир» вязальных петель до «макромира» петель дверных. Сама дверь — тоже каноническое обращение к богородице — «Небесная дверь».
Метаметафора не гомункулус, выращенный в лабораторной колбе. Вся теория метакода и метаметафоры возникла из стихов, а не наоборот. В поэзии антропная космическая инверсия сама собой порождает метаметафорический взрыв. Трудно судить, насколько осуществилась моя мечта передать словами миг обретения космоса.
Нам кажется, что человек неизмеримо мал, если глядеть с высоты вселенной, а что если наоборот, как раз оттуда-то он и велик. Ведь знаем же мы, что одно и то же мгновение времени может растягиваться в бесконечность, если мчаться с релятивистской скоростью. Вся вселенная может сжаться в игольное ушко, а человек окажется при инверсии больше мироздания. Метаметафора, конечно, условный термин — важны новые духовные реальности, обозначенные этим словом, открываемые современной физикой, космологией и... поэзией.
Может быть, прежде всего поэзией. Метаметафора как-то одновременно в разных точках пространства возникла в поэзии. Парщиков жил в Донецке, Иван Жданов в Барнауле, в сибирской деревне А. Еременко, а я преподавал в Москве. Есть какое-то информационное поле, связующее творческих единомышленников, незримое звездное братство. Не о нем ли думал Александр Еременко, когда с улыбкой писал:
Пролетишь, простой московский парень,
Полностью, как Будда, просветленный.
На тебя посмотрят изумленно Рамакришна, Кедров и Гагарин...
Потому что в толчее дурацкой,
Там, где тень наводят на плетень,
На подвижной лестнице Блаватской
Я займу последнюю ступень.
Кали-Юга — это центрифуга,
Потому что с круга не сойти.
Мы стоим, цепляясь друг за друга,
На отшибе Млечного Пути.
В «Дне поэзии» — 1983, где напечатано это стихотворение, мою фамилию заменили на Келдыша, поскольку КГБ уже начало операцию «Лесник». В 1991 году в тайниках КГБ обнаружен документ, датированный 1984 г. «Предотвращено поступление Лесника в Союз писателей». В 1986 году по требованию КГБ меня отстранили от преподавания в Литинституте по статье «Антисоветская пропаганда и агитация». Кличка «Лесник» вероятно связана с моей фамилией «Кедров».
Однажды Альберт Эйнштейн сказал: «По-моему, математика – это простейший способ водить самого себя за нос». Любой поэт и читатель, лишенный чувства юмора, окажется таким незадачливым математиком.
Смеялся Осип Мандельштам, смеялся Хлебников, смеялись обэриуты. Метаметафора порой иронична.
Можно, конечно, вспомнить наши опыты в конце 70-х годов с двухмерным пространством, чтобы почувствовать новый ироничный облик метаметафоры в таком тексте Алексея Парщикова:
Когда я шел по каменному мосту,
Играя видением звездных воен,
Я вдруг почувствовал, что воздух
Стал шелестящ и многослоен...
В махровом рое умножения,
Где нету изначального нуля,
На Каменном мосту открылась точка зрения,
Откуда я шагнул в купюру «три рубля».
У нас есть интуиция — избыток
Самих себя. Астральный род фигур,
Сгорая, оставляющий улиток...
О них написано в «Алмазной сутре»,
Они лишь тень души, но заостренной чуть.
Пока мы нежимся в опальном перламутре
Безволия, они мостят нам путь...
Дензнаки пахнут кожей и бензином,
И если спать с открытым ртом, вползают в рот.
Я шел по их владеньям как Озирис,
Чтоб обмануть их, шел спиной вперед.
Переход в двухмерное пространство трехрублевки и блуждание по «астральным» водяным знакам и фигурам интуиции с воспоминанием о мистериях Озириса — образ антинеба. Здесь деньги как противоположность небу вгоняют в плоскость, в теневой мир. Попросту говоря, это смерть, своего рода антивыворачивание, антивоскресение. Мистерия Озириса «задом наперед».
По-своему обживает новое пространство тангенциальной сферы Елена Кацюба. Она, как Парщиков и А. Еременко, ближе к ироничным обэриутам. Ее «Крот» чем-то напоминает «Безумного волка» Н. Заболоцкого.
Герой геодезии карт,
он ландшафт исправляет,
он Эсхера ученик —
выходит вверх, уходя вниз.
Математик живота,
он матрицу себя переводит в грунт.
Земля изнутри — это крот внутри.
Внутри крота карта
всех лабиринтов и катакомб.
В начале 80-х Елена Кацюба создает новый анаграммно-комбинационный стих.
В стихотворении «Заводное яблоко» слово «яблоко» претерпевает 12 анаграммных инверсий, выворачиваясь, то в «око», то в «блок», то в «боль» пока, пройдя сквозь 12 знаков зодиака, не вывернется из нутра мироздания.
ЯБЛОКО — в нем два языка:
ЛЯ — музыка
и КОБОЛ — электроника.
Это ЛОБ и ОКО БЛОКа,
моделирующего БЛОКаду
на дисплее окон.
Так тупо топает мяч-БОЛ.
БОЛь, не смягченная мягким знаком,
потому что казнь несмягченная
есть знак —
КОЛ, пронзающий БОК,
в кругу славян, танцующих КОЛО.
Я выхожу из яблока,
оставляя провал — ОБОЛ,
плату за мое неучастие
в программе
под кодовым названием
«ЯБЛОКО».
Такой отказ от яблока Евы на самых потаенных глубинах языка заставляет вспомнить труды французского психоаналитика Лакана. Лакан считает, что на уровне подсознания каждое слово, как бы выворачиваясь через ленту Мёбиуса, порождает массу значений. В стихотворении Е. Кацюбы лента как бы прокручивается обратно из подсознания в сознание, стирая все 12 зодиакальных значений слова «яблоко».
Спектр метаметафоры ныне доходит до не различимых взором инфракрасных и ультрафиолетовых областей, от космических инверсий пространства к инверсиям звука и самой семантики слова.
У поэзии есть свои внутренние законы поступательного движения. Где-то в 30-х годах замолкли обэриуты, позднее забыли Хлебникова. Ныне движение началось с той самой точки, на которой остановились тогда. Первый мах небесного поршня, вышедший из мертвой точки,— поэзия А. Вознесенского. Ныне зеркальный паровоз метаметафоры двинулся дальше.
Зеркальный паровоз
шел с четырех сторон
из четырех прозрачных перспектив
он. преломлялся в пятой перспективе
шел к неба к небу
от земли к земле
шел из себя к себе
из света в свет
По рельсам света вдоль
По лунным шпалам вдаль
шел раздвигая даль прохладного лекала
входя в туннель зрачка Ивана Ильича
увидевшего свет в конце начала
он вез весь свет
и вместе с ним себя
вез паровоз весь воздух весь вокзал
все небо до последнего луча
он вез
всю высь
из звезд
он огибал край света
краями света
и мерцал как Гектор перед битвой
доспехами зеркальными сквозь небо...
(К. К. 1980.)
***
Кирилл Ковальджи
ОН ОТКРЫЛ ТАЙНУ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО
(фрагмент статьи)
…Константин Кедров утвердил свой суверенитет, когда наши народные витии еще и не помышляли. Период застоя полновластно держался на кремлевских старцах, а поэт уже умудрился открыть внутреннюю свободу, и она оказалась никак не меньше всего окружающего мира. Он открыл для себя тайну внутреннего и внешнего, слова и события, преходящего и вечного – открыл формулу их мерцающего единства. Он взял и выскочил из трехмерного пространства вкупе с четвертой координатой, именуемой временем, научился свободно перемещаться сквозь все системы мироздания по оси внутри-извне. Замкнутому миру индивидуальной поэзии он предпочел разомкнутый: не перчатку поэзии по руке стихотворца, а вывернутую – по мерке космоса.
Я не берусь провести границу (границы-то Кедров не жалует) между его взлетами, прорицаниями и самообольщениями, зашкаливанием, ловлей словесного кайфа. Главное в нем – заразительная воля, отмена опор; он в океанической толще культуры чувствует как рыба в воде, более того, летучей рыбой легко пересекает границу сред.
Константин Кедров больше самого себя. В стихах ли, статьях или лекциях он прежде всего дарит щедрые россыпи свободы, негаданных взаимоотражений, становясь в чем-то похожим на Велимира Хлебникова, добывавшего золотоносную руду для будущих ювелиров. Есть творческие личности феноменального свойства. Мне кажется, К.Кедров гораздо сильнее воздействует на молодое поколение поэтов, чем на читателей. Критики же просто в отпаде – в их арсенале нет нужного критерия: тут нечто безмерное и чрезмерное. Недаром его яркая вызывающая книга «Поэтический космос» (1989) встречена дружным молчанием как левых, так и правых. Словно Дон Кихот прошел между двух враждующих станов, прошел, не глядя по сторонам, устремив очарованный взор к звездам, одному ему видимым среди бела дня.
Константин Кедров в конце семидесятых годов был в литературе одним из возбудителей духовного раскрепощения, был, между прочим, использован и как трамплин – от него «оттолкнулись» Парщиков, Еременко со товарищи, они взлетели на страницы печати раньше своего инспиратора. Поэтому, к моей радости, в связи с выходом «Компьютера любви» – сборника избранных стихотворений и поэм Константина Кедрова (М., Худож. лит., 1990) примешивается и привкус горечи: этот «поезд» пришел с опозданием, публика на перроне успела пресытиться негаданными встречами, и вдобавок ее внимание отвлечено тревогой, выкриками митингующих, требующих отставки правительства. В обществе состоялся прорыв к политической свободе слова, но при этом – увы! – оно оказалось неподготовленным к художественному плюрализму: неудивительно, что на смену стихам за Сталина пришли стихи против, но как прикажете понять: «пространство – это развернутый конь, кошки – это коты пространства», а «человек – это изнанка неба, небо – это изнанка человека» и т.п.? Что это? Досужие забавы или «словесные приключения» по выражению Набокова? Возврат к «пощечине общественному вкусу»?
Сколько бы ни было «перехлестов у Константина Кедрова (а он порой и нарочно эпатирует), а янтарь на берегу – вот он! Сказавший «никогда не приближусь к тебе ближе, чем цветок приближается к солнцу» – это поэт, ибо только поэт может открыть образ и уничтожить астрономическое расстояние между цветком и солнцем. Я убежден, что только поэт может написать: « государственная граница лежит внутри… между правым бедром и левым легким», «пришла щека отдельно от поцелуя, пришел поцелуй отдельно от губ», «ястреб действует как лекало – он выкраивает все небо, я выкраиваю все время…»
Казнь и казна это два необъятных царства
это особое свойство времени именуемое «необратимость»…
Если казни не будет
есть дисциплина
ибо без дисциплины казнь невозможна
хотя дисциплина казнь.
Пусть повышает поэт производство грусти
заповедь стали – крепить дисциплину казни
Так разрастается всемирная казнь
дисциплинированная размеренная
окрашенная как гроб в маренго
и косящая в бок…
Так Полежаев и Тарас Шевченко
два товарища два солдата
отслужили службу времени
и улизнули в вечность.
Вечность это
недисциплинированное время
(«Казнь», 1983)
На глазах наших рухнул чудовищный рационализм, тот, о котором писалось в день похорон Маяковского: «Покойный был певцом революционной РАЦИОНАЛЬНОСТИ. Похороним его как материалиста, как диалектика, как марксиста… Разольем его память, как чугун, по чашкам пролетарских сердец и черепных коробок».
А как быть со стрекозой? Константин Кедров почувствовал Маяковского ИНАЧЕ, увидел поэта, готового сшить себе желтую кофту из трех аршин заката.
Квитанция, которую я получил,
Полыхает закатом,
– пишет Кедров в стихотворении «ДООС», там, где сказано, что «неостановленная кровь обратно не принимается». Но что такое ДООС? Пожалуйста, запомните: Добровольное Общество Охраны Стрекоз.
Я не хочу чугуна по чашкам сердец. Я от него бесконечно устал. Пусть стрекочут стрекозы с глазами инопланетян.
***
Алексей Парщиков
КОНСТАНТИН КЕДРОВ, ЕГО КОНЦЕПЦИЯ
Константин Кедров говорит: “Слово “метаметафоризм" мы откопали в беседах на одной из переделкинских дач, и первоначально оно звучало по-разному: неуклюже и пластмассово — "метафора космического века", "релятивная метафора" и т.д., хотя имелось в виду всегда одно и то же, как бы ни называли, — мистериальная, такая или сякая, предполагалась, с моей точки зрения, космическая реальность во вселенной на скоростях близких скорости света, где и происходит ретардация, замедление действия, укрупнение кадра, торможение с вибрацией фюзеляжа, гиперпристальность к микровеличинам, все большее напряжение метонимической детали. Это можно назвать спокойно и реализмом, и все, что связано с визуализацией, — чистейшая метафора. Самоцитируюсь: "Раньше такой метафоры не было. Раньше все сравнивали... Поэт и есть все то, о чем он пишет. Здесь нет дерева отдельно от земли, земли отдельно от неба, неба отдельно от космоса, космоса отдельно от человека. Метаметафора отличается от метафоры, как метагалактика от галактики". Предмет растягивается по вселенной. И происходит удивительная вещь: реальность, которую открыли независимо друг от друга мистики и физики, это ноль времени, ноль пространства, то, что мы прослеживаем на феномене фотона”.
— Как же относиться, например, к исихазму? — спрашивал я Кедрова.
Кедров считает, что исихазм не нашел адекватных динамических форм визуальных и фонетических, т.е. языка искусства, поэтому обратился к символам. Можно предположить, что есть лучи, которые пронизывают всю вселенную, когда все время и пространство становится твоим.
“Наша новизна в другом, — (он употреблял "мы", "наша", потому что в атмосфере поисков было что-то общепритягательное, не имеющее ничего общего с распределением ролей — А.П.) — говорил Кедров, — ведь все это мистики проговорили и до нас, но они не считали это своим, а считали это принадлежностью той или иной религиозной системы. Мы же свободные личности в несвободной стране, где подчас даже не было свободы умыться, нашли для нашей индивидуальной жизни абсолютное космическое пространство: абсолютное, приплюсовывая копенгагенскую школу физики Гейзенберга, Нильса Бора, то, что философы начали формировать, подбираясь к антропному принципу мироздания, а началось с Поля Дирака, но добрались до первых выводов только к 80-м годам”.
— “Мне было легко воспринять теперешние мои взгляды, — вспоминает Кедров, — потому что сам пережил в августе 58-го года то, что исихасты и описывают, — это свечение другого объекта. Сходно — Аввакум на чине в пятницу в его письме к царю: "Распространился язык мой и руцы мой и руцы мои и нози мои на небо и солнце и всю вселенную, и я широк и пространен стал". Аввакум сидит голодный в яме и чувствует, что тело его разрастается до размеров вселенной и поглощается ею. Если не знать всего того, что мы сейчас знаем о полях и энергиях, то состояние протопопа — тип галлюцинации. Но есть вероятность, что не о галлюцинации речь. Существуют объективные состояния, которые я не хотел бы называть слиянием со вселенной, а взаимным обретением, что я прочитываю в "Новогодних строчках" или в "Я жил на поле полтавской битвы", где баталия описана, как если бы ее свидетель мчался через нее, приближаясь к скорости света. Было бы преувеличением сказать, что не появлялось подобного опыта в поэзии: Хлебников говорил не только декларативно об эйнштейновской физике, художники над парадигмой теории относительности колдовали, обдумывали ее, сознательно стремились к пониманию преображения на переходе в пространство-время. В одной эмигрантской газете я читал, как подвыпивший Эйнштейн избивал свою первую жену, был волокитой, и все его открытия инспирированы Милевой Марич. Марич была женщиной не случайной и самоотверженно ему помогла, это верно, а о его пьянстве я не ведаю ничего, но о его владении математическим аппаратом на уровне троечника и как ему помог Тулио-Левичивита, Минковский, его педагог, когда Эйнштейн учился в политехникуме, — не тайна. Эйнштейн был твердый троечник, а математический аппарат требует еще и прилежания, и круг, в котором он сделал свои открытия, известен — Соловин Марк, его друг, они размышляли о современной физике, о принципе Маха, но все-таки поиски вертелись вокруг Спинозы и Канта: Эйнштейн был настроен ворчливо: для Канта время и пространство — вещи субъективные. Эйнштейн настаивал, что кантовское субъективное на деле — объективная реальность. Он считался с кенигсбергским философом, особенно в зрелые годы, но был не согласен с Кантом в том, что взаимоотношение времени и пространства только субъективны. Физик и сам до конца не осознавал, что теория относительности может быть объективно-субъективным миром. Фактически, взаимодействие пространственно-временных измерений происходит в мирах теории относительности или в последовавшей за ней квантовой механике, а с точки зрения этой физики можно, наращивая скорость, замедляться в пространстве, с чем мы имеем дело почти в обиходе. Конечно, признать, что человек является столь сложным ускорителем, — сложно, — не совсем очевидно, что в нас эйнштейновские законы подтверждаются постоянно”.
Я заговорил о новом (возможном) символизме, построенном на предлагаемых Кедровым моделях художественной определенности.
Кедров: “Если говорить о стихотворении "Невеста", которое я приведу ниже, за ней много культурологических аллюзий. Она же — звезда, мифологическая Астарта, дальше "...невесомые лестницы скачут..." с одной стороны "невесомые", как антигравитация, антигравитационный момент Эроса, с другой стороны — "радуйся лестница от земли к небу". Невесомость связана с эротикой по той простой причине, что при зачатии происходит выворачивание, как и при рождении; не уверен, что эта же фаза присутствует при умирании, хотя об этом явлении пишут и говорят. Эти феномены можно назвать инверсией внутреннего и внешнего пространства. Да, таким выражением можно было бы заменить термин "выворачивание", но тогда исчезнет теплота присутствия личности. При зачатии происходит выворачивание, раскрывается бутон, он тоже выворачивается, при big bang тоже происходит выворачивание вселенной из атома, выворачивание — такой процесс, который пронизывает все измерения пространства. Я жил в тоталитарной стране, но уже в 73 году идея, векторы моего мира были набросаны в поэме "Бесконечная", фактически то была запись простого чертежа словами, векторная схема в тетрадке в клеточку, манекен, который в дальнейшем будет обрастать изменчивыми образами (привожу отрывок):
Я вышел к себе
через-навстречу-от
и ушел под
воздвигая
над
Человеку легче представить простое переворачивание: верх становится низом, низ верхом. Скажем, в "Изумрудных скрижалях" Гермеса Трисмегиста то, что есть внизу, — перекувырнется, это — диалектическая перекантовка, переброс плюсов. А вот до выворачивания почему-то как-то не дошли.
Подспорьем мне был один единственный апокрифический текст. "Евангелие от Фомы". Автор перечисляет: когда мужское станет женским, верх — низом, правое — левым, но главное, что мы войдем в Царство Божие, согласно апокрифу, если внешнее станет как внутреннее, а внутреннее как внешнее.
У о.Павла Флоренского книга "Мнимости в геометрии" заканчивается пассажем о том, что если тело разогнать до скорости света, оно обретет свою бесконечную массу, т.е. вывернется, слово вывернется выделено шрифтом. В книге "Поэтический космос" я цитирую Флоренского, но надо помнить, что у Флоренского выворачивание относится к физическому телу. Когда было зафиксировано в космологии первое выворачивание? Систему Птолемея, по которой Солнце вращается вокруг Земли, вывернул Коперник, поставив человека на околосолнечную орбиту, и люди забеспокоились, обиделись, озлились и стали предавать кострам отщепенцев. Нужно было в коперниковской системе перемахнуть от субъективного положения человека, от антропоцентризма в пользу запредельного космического знания, которое предложил Коперник, что далось человечеству с большим напряжением, и только спустя 70 лет разрешили это представление, а до этого можно было изучать открытие Коперника лишь как модель математическую. В представлении о современном выворачивании более грандиозная вещь происходит так: Земля сместилась на периферию, а Солнце встало в центр, Солнце со всей вселенной разом смещается на периферию, а в центре спохватывается снова человек, потому что он вмещает теперь в себя вселенную целокупно. Разрушается граница между субъектом и объектом”.
В стихотворении К.Кедрова "Невеста" присутствует модель выворачивания — восьмерка, — чей центр, как середина скрипки или черной дыры.
НЕ-ВЕС-ТА
Невеста лохматая светом
Невесомые лестницы скачут
Она плавную дрожь удочеряет
Она петли дверные вяжет
Стругает свое отражение
Голос сорванный с древа
держит горлом вкушает
либо белую плаху глотает
На червивом батуте пляшет
ширеет ширмой мерцает медом
под бедром топора ночного
Она пальчики человечит
Рубит скорбную скрипку
тонет в дыре деревянной
Саркофаг щебечущий вихрем
Хор бедреющий саркофагом
Дивным ладаном захлебнется
голодающий жернов "восемь"
перемалывающий храмы
Что ты дочь обнаженная
Или ты ничья?
Или звеня сосками месит сирень
турбобур непролазного света?
В холеный футляр двоебедрой секиры
можно вкладывать только себя.
Явственна постоянная модель восьмерки, чей центр — это и сердце, человек, весь, его мозг и одновременно — модель песочных часов. В стихотворном заголовке обнаружена и анаграмма: не- вес-та, т.е. не-гравитация.
“В моих текстах, — говорит Кедров, — встречается множество анаграмм. В тексте есть и традиционная символика — восьмерка, петля Мебиуса, скрипка, а "дыра деревянная" — символ черной дыры, из которой восходит струнная лесенка к небу. Эти мои модели можно найти и в стихотворении "Компьютер любви" (1988): "Человек — это изнанка неба. Небо — это изнанка человека..." Преимущественно я говорил об этих художественных идеях в кругу близких мне поэтов, но частично и на своих лекциях в Литературном, куда я поступил в аспирантуру в 1969 г., а потом преподавал до 86, когда мне пришлось покинуть кафедру под давлением КГБ, — они придумали, что мои воззрения развращают студентов. За два года до моего отстранения была опубликована враждебная, санкционированная статья моего соученика по Казанскому университету Рафаэля Мустафина со ссылками на Андропова и Черненко (журнал Литературное обозрение № 4, 1984). Одновременно вышло мое послесловие к Новогодним строчкам" в “Литературной учебе”, где ясно был артикулирован принцип метаметафоризма. Ректору института почему-то было не по нраву нападение полицейской структуры на своего коллегу; он по мере природной пассивности защищал меня от агрессии КГБ. Но в 86 г. двое уполномоченных всем на диво явились прямехонько в ректорат и потребовали моего отстранения от должности. Письма в мою защиту студентов к Горбачеву не помогли, а время тогда называлось перестроечным, но каким-то троечным. Была у меня и ранее напечатанная статья в сборнике "Писатели и жизнь" и "Звездная книга", где я все сказанное выше изложил под видом анализа фольклорных источников. Всякий раз приходилось прибегать к иносказаниям, обращаться то к Блоку, то к Хлебникову, обезоруживая своих недоброжелателей и защищаясь. Еще раньше выворачивание было рассмотрено на модели Достоевского в новомировской статье в книжке, посвященной столетию смерти писателя, называлась "Восстановление погибшего человека", 1981 г. Структуралистские школы тогда еще были поглощены своим материалом, открытия шли чередой в руки. Структуралисты, если и читали мои работы, рассматривали их как игру, близкую им по творческому поведению, по менталитету автора.
Термин выворачивание я впервые употребил по ходу лекции на примере конструкции русской матрешки. Может ли меньшая матрешка вместить большую, таков был парадоксальный вопрос к аудитории. Казалось бы, чтобы вместить в себя большую матрешку, ей нужно либо увеличить себя в размерах, как сделал Аввакум, либо вывернуться наизнанку, и тогда бедная матрешка сломается, но представьте, что она живая, и тогда достаточно переменить в себе векторы внутреннего и внешнего. К счастью, человек обладает такими возможностями на духовном уровне. Такой гипотетической "матрешкой" был Андрей Белый, на вершине пирамиды Хеопса переживший космическое преображение.
В 78 году я изобрел для себя анаграммную рифму, пронизывающую все текстуальное пространство. Вяч. Иванов утверждает в послесловии к русскому изданию Соссюра, что Соссюр в своих неопубликованных тетрадях обнаружил в Махабхарате, Илиаде и Одиссее анаграммную, по сути бесконечную рифму, являющуюся внутренней рифмой, названных текстов. Я пришел к этому принципу практически, потому что мне нужна была тотальная рифма. А как решается проблема психологического пространства? В той мере, в которой поэзия отсутствует, для меня начинается ад. В России существует немного странноватая традиция, концентрация внимания и эмоций именно на инфернальных явлениях, и если бы Дант работал на нашей земле над "Божественной комедией", он бы даже до "Чистилища" не добрался... Оставался бы интервьюером в аду.
Все бы вопрошал, — за что ты старушку убил? Если я читаю стихотворение, и если там присутствует метаметафора на уровне синтаксиса, на уровне композиции, или на уровне визуального образа, или на уровне звука и при этом я еще и несчастен? Я либо не слышу стихотворения, либо передо мной не стихотворение, а симулакрум. В России принято сосредотачиваться на внестихотворном пространстве, — что будет до восприятия и оценки текста и что будет после прочитанного, — влюбленные еще не успеют поцеловаться, а уже думают об аборте или распределении наследства”.
***
КОНСТАНТИН КЕДРОВ
(их книги МЕТАМЕТАФОРА)1999г
***
В 1958 году я увидел и почувствовал себя в пространстве Лобачевского. Все поверхности мира вывернулись внутрь, в том числе и поверхность моего тела. Оказался не только внутри вселенной, но и со всех сторон НАД.
Я вышел к себе
ЧЕРЕЗ-НАВСТРЕЧУ-ОТ
И ушел ПОД
воздвигая НАД
Два дня я переделывал школьный учебник по геометрии, теоремы и аксиомы Евклида, годные для идеальных прямых плоскостей, в изогнутый седловиной мир Лобачевского. Кратчайшим расстоянием между двумя точками оказалась дуга, Ане отрезок прямой. В то же время вышел сборник Андрея Вознесенского «Парабола», где утверждалось, что «судьба, как ракета, летит по параболе», и хотя в конце стихотворения стоял вопрос: «а может быт все же прямая короче», мне было абсолютно ясно, что правы Лобачевский, Хлебников и Вознесенский, а не Евклид, Пушкин и Бродский.
В мастерской художницы Галины Мальцевой я увидел вогнутое внутрь зеркало от прожектора. Оно вбирало в себя всю комнату и возвращало зрению, обратно отражаемое, сферическое пространство. Подойдя к нему, можно было указательным пальцем соприкоснуться со своим отражением не на поверхности зеркала, а в воздухе. Так у Микеланджело на фреске «Сотворение Адама» Бог протягивает указательный палец навстречу своему творимому подобию, а Подобие соприкасается указательным пальцем с пальцем Творца.
Никогда не думал, что выворачивание может быть зримым. Вогнуто-выгнутое зеркальное пространство, где каждый предмет охватывает собою мир и одновременно пребывает
внутри него – вот что такое МЕТАМЕТАФОРА.
Я бы никогда не заинтересовался этой высокой геометрией, если бы она не отражала мир так, как я его чувствую. Люди воспринимают звездное небо и всю вселенную, как внутреннюю поверхность елочного шара, внутри которого они пребывают. Я же охватываю этот шар изнутртри-снаружи. Лобачевский назвал свою геометрию «Воображаемая». Правильнее считать воображаемой геометрию Евклида. Младенец внутри материнской утробы пребывает в теплой псевдосфере Лобачевского. В момент рождения отрицательная внутренняя кривизна становится положительной – внешней, а затем несколько мгновений пока не перережут пуповину он находится внутри-снаружи. Если верить Фрейду и Грофу, то я слишком хорошо запомнил этот момент, только теперь утробой стала Вселенная. Мое космическое рождение совершилось 30 августа 1958 года в полночь в Измайловском парке и запечатлелось в стихотворении «Страна голубой печали».
Просто есть Страна Голубой Печали
Я молчу я любимая больше не буду
Это просто мамонты прокричали
но ведь их все равно никогда не услышат люди
Два года спустя в поэме «Бесконечная» я вернулся к этому ощущению:
Где голубой укрылся папоротник
и в пору рек века остановились
мы были встречей ящериц на камне
"В Начале было Слово"? Возможно. А может быть, вначале было ухо, чтобы это слово услышать, или хотя бы слух.
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клешами звезд огромное ухо.
(В. Маяковский, 1914-1915)
Меня всегда огорчало отсутствие МЕТАМЕТАФОРЫ у моих любимых поэтов футуристов, в том числе и у Маяковского. Человек-Вселенная – "Облако в штанах" у него конечно же есть, но внутренне-внешнее пространство еще не освоено. Всему свое время под солнцем. И все-таки однажды он вывернулся:
Нежные!
Вы любовь на скрипки лежите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы
Не случайно в том же «Облаке» рядом с вывернутыми в сплошной вселенский поцелуй губами возникает еще один ИНСАЙААУТ
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
Формула МЕТАМЕТАФОРЫ внешне проста
Я / Вселенная = Вселенная / Я
* * * * * * * * *
***
Человек – это изнанка неба
Со времен Птолемея Человечество рассматривало свое местоположение во Вселенной, а надо было рассматривать местоположение Вселенной в себе.
Я осмелюсь высказать совершенно невероятную для большинства людей мысль. Человек не внутри Вселенной, а одновременно и внутри и снаружи обхватывает ее собой. Нам кажется, что мы внутри Космоса; но это такая же иллюзия, как движение Солнца вокруг Земли.
Возьмите маленький детский резиновый мячик и бросьте его в океан. Все ясно: океан снаружи, а мяч внутри океана. Ну, а теперь попробуйте мысленным взором вывернуть маленький мячик наизнанку. Во время выворачивания наступит такой момент, когда мячик охватит собою
весь океан.
Представьте себе, что вместо мячика — человек, а вместо океана — Вселенная, и вы поймете, что происходит с человеком, когда он "выворачивается" в Космос.
Впрочем, не только человек, но и все живое. Бутон выворачивается в мироздание: так появляются листок и цветок, улитка выползает из ракушки, охватывая ее собою А человек?
Обтекая галактику селезенкой,
Я улиткою звездною вполз в себя,
Медленно волоча за собой
Вихревую галактику,
Как ракушку
Звездный мой дом опустел без меня.
(К. К.)
Речь идет о том, что можно мысленно и чувственно выползти из ракушки нашей галактики и всего мироздания, обволакивая собою весь мир.
Не только все пространство, но и все время с прошлым, будущим и настоящим человек может в одно мгновенье объять собою.
"Для Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день».
При "выворачивании" человек вообще выходит за пределы времени и пространства:
Сколько бы ни было лет Вселенной,
У человека времени больше.
(К. К.)
Сам я, пережив дважды такое космическое посвящение, понял, что переворот Коперника надо продолжить как отказались люди от иллюзии плоской земли, вообразив, что она круглая, так же следует отказаться от иллюзии нашего пребывания внутри Космоса и отдельно от Космоса. Космос — наше нутро. Это даже не дом наш, а наше вечное тело.
Человек — это изнанка неба
Небо — это изнанка человека
(К. К.)
В момент "выворачивания" тело человека начинает светиться и ощущается как бы утрата веса. Что-то вроде неподвижного полета от себя и к себе одновременно Самая дальняя точка мироздания становится близкой, а наоборот собственное тело распространяется по всему Космосу. Четко ощущается, что будущее вдруг оказывается в прошлом, а прошлое воспринимается как будущее. Даже собственная смерть становится уже пережитой, а рождение постигается заново.
"Выворачивание" — это даже нечто большее, чем бессмертие. Космическое "выворачивание" я назвал термином инсайдаут чтобы выделить его вселенскую суть.
Американский космонавт Эдгар Митчелл, вступив на Луну и взглянув на Землю со стороны, вдруг почувствовал что вся Вселенная стала частью меня". Именно частью. Человек больше, чем мироздание, открытое его взору.
Много раз я пытался описать, что произошло со мною не на Луне, не в Космосе, а здесь, на Земле, и однажды написал стихотворение "Позади Зодиака".
Небо — гаечный ключ Луны.
Медленно поверни.
Из резьбы вывернется лицо,
Хлынет свет обратный
На путях Луны, друг в друге алея
За этой свободой
Ничем неочерченный
Неограненный
За этими пьянящими контурами
Проявляющейся фотобумаги
Не ищи заветных признаков,
Не обременяй громоздким
Твое грядущее шествие в незавершенность.
И когда эти камни,
Эти пьянящие камни,
Отпадая от тела,
Упадут в пустоту,
Ты пойдешь по полю,
Наполненному прохладой,
Отрывая от земли
Букет своих звонких тел.
(К. К.)
***
Алла Кесельман (ДООС)
Метаметафора – новое онтологическое пространство
Опыт чтения метаметафорического текста
Возникнув по библейскому варианту в первый момент творения вместе со Светом, язык унаследовал основное его свойство: называя, порождать отражения, другими словами – проявлять мир, отражаясь от него.
Из этого можно заключить, что зеркальность является первичным, имманентным свойством языка, свойством его природы; в этом случае отражение возникает раньше зеркала, либо неотделимо от него. Языку, как зеркальной системе, присущи и все структуры зеркальности: анаграмма, палиндром, симметрия, инверсии, парности, образные миражи и т. д., среди которых рифма – не что иное как внутренний надрез языка, в котором видно, как микроструктуры слов отражаются в себе и друг в друге.
Не оставляет сомнений, что тотальная рифма является проявлением тотальной зеркальности языка (т.к. первое Слово было целиком зазеркалено).
Естественное следствие этого – анаграммное строение священных текстов, еще не потерявших голографической цельности первоначального Слова., Глазам Бога текст предстает в образе сферы или шара, центр которых везде, а радиус бесконечен (трансцендентальные модели текста в сферах Н. Кузанского и Т. де Шардена). Структура голографического целого восстанавливается по его осколкам. В том, что Божественный акт творения является осуществленным актом отражения в зеркальном мире, мы убедимся, обратившись к библейскому описанию сотворения женщины. В качестве инструмента – материала Бог использует Адамово ребро. Зеркально восстанавливая это слово, мы увидим, что его ближайшей (материнской) анаграммной надстройкой является слово серебро – тайная, амальгамная поверхность зеркала. В тексте это тщательно вуалируется многократным повторением слов «глиняный», «земляной» – материал, из которого создан сам Адам (Кадмон). Таким образом, проведя несложный «спектральный» анализ, мы видим, что женщина отделилась от мужчины, отразившись от него.
Несколько другой точки зрения на проблему зеркальности придерживается Е. Кацюба – поэт-метаметафорист, археолог языка, высвобождающий его палиндромическую природу-руду.
В тексте Зола Креза – исследовательской экспедиции в оптическую систему языка, Е. Кацюба выдвигает следующую теорию происхождения Зеркала: «... Отсюда главный вопрос: когда в мире появилось зеркало, то есть отражение? И ответ: когда Бог создал человека, то есть зрение. Сам Бог не нуждался в зрении чтобы видеть. Он также обладал и отражением, но был с ним неразделен. Следовательно, первый акт творения – это разделение Творца и его Отражения». Вселенная здесь начинается только с момента появления в ней Человека.
Метаметафора всегда имеет дело с преображенной реальностью, которую сама и преображает. При этом возникает множество новых структур и связей, требующих от читателя нового сознания, новой, преображенной души. Метаметафорический текст требует нового типа чтения.
Ниже мы предлагаем один из возможных вариантов чтения книги «Метаметафора».
Евангелие от звезды
I.
Если эту книгу освободить от корешка, лестница страниц приведет вас на небо.
Лестница – это форма воздушного текста и транспорт воздуха: ее извилистый хребет – единственная у людей мера измерения волнистого пространства.
Лестницы всегда хроматичны и, в основном, октавны. Изгибаясь в октавных суставах, клавиатурное тело лестницы закручивает себя вверх. Порез воздуха от этого движения начинает светиться.
В виде такой пылающей лестницы увидел во сне Иаков амфитеатр небес (амфитеатр Млечного Пути, с Земли видимый сбоку).
Остыв, лестницы остаются каменными книгами пространства. Но под сеткой текста, на огромной глубине, в них все еще плавится звездное вещество, и чем ближе оно к поверхности, тем священнее озаренный им текст.
Память о звездном происхождении зашифрована в тексте Библии:
«Библия – это вечное созвездие светил, горящее над нами в небесах, в то время как мы движемся, в мире житейском, созерцая их все в неизменном, но и в новом положении для нас» (о. С. Булгаков).
В каждой книге сковано желание распрямиться, став лестницей от земли к небу – алфавитом. Его вторая проекция горит в кольце Зодиака.
В книге «Метаметафора» алфавит расслоен в 3-х физических и в бесконечном множестве метафизических пространств. Текст этой книги – о бессмертии самого Текста. Рукописи не горят, они переходят в свет.
II. Озаренное время
Возможно «звездной» родословной текста объясняется его структурное сходство с библейским.
Кроме того, книга написана на языке Поэзии, обладающем каноничностью и неподвижностью священного. Язык метаметафорический священен в языке поэзии: слово поэтическое объемно, слово метаметафорическое – пространственно, и в этом приближается к Божественному.
В начале было Слово: в храме языка поэт-первосвященник.
«Ангелическая поэтика» начинается с перечисления родов («родословной в обратной перспективе»), восходящей к Иисусу Христу.
Сквозь текст Бытия проступает текст Воскресения. Родословная здесь – лестница ангелического времени, идущего вспять, к моменту, когда Воскресение предшествовало Творению. Расшифровывается это так: прежде сотворения человечества была сотворена его световая голограмма:
Человек Сотворенный непрозрачен, Воскрешающий же – зеркален. Он меняется с небом звездной кожей и, сливается с ним в единое пространство. Человек наполняется небом, а время пустеет.
Хронос сына ест, а сын пуст...
Пустота времени, наполненная небом, называется вечностью. Озаренное время внутри человека – рай.
III. Мельница зеркал
Стихи – линзы текста.
Кедров вышивает прозой по стихотворной канве и вращает текст, как глобус, на оси стиха.
В первой главе эта ось – шахматы и зеркала.
Гамма шахмат умножается на гамму зеркал, получая недостающее «или». Человек расширяет себе пространство между белой и черной шахматными клетками, выгнув их. Выгибая плоскость нашего времени до окружности сферы, К. Кедров смещает фокус, и воскресение (выворачивание) оказывается посреди жизни.
Вот два рукава спирали, на которые закручивается текст:
1.
Шахматы
мистерия Свадьба
Поединок Гамлета и Лаэрта
Цикл суток (творения)
Поле родового герба
Морской прибой
Шахматный рояль
На черном озере белый лебедь
2.
(Шахматы в «Бесконечной»)
Зеркала
Дека – эхо (зеркало) звука
Небо – зеркало взгляда
Зеркальная могила Офелии,
Эльсинор
Палиндромная поэзия или Верфьлием
Зеркальный паровоз
Конь окон
IV. Язык – твердь и язык – воздух
Метаметафора – умножение вселенной на себя бесконечное число раз.
Вселенная в языке Кедрова - огромный шевелящийся глагол, времена которого даны вертикально, аккордово и спрессованы во время – точку в «Верфьлиеме». Верфьлием – край земли языка, обрыв в невесомость, в язык – воздух. Здесь нет притяжения – спряжения частей речи. Все лица сливаются в одно лицо нуля. Ноль времени, сущности, тверди и переход через ноль: зеркало-минус-метаметафора.
V. О дирижировании
Космическая партитура пишется во время игры. Сутки – ее космические такты.
Бабочка – пульт космического дирижера. Как тоненькой пленочкой жизни по краям бездны, книга окружена узорами дирижерского жеста, «рисующего» контуры всего, что должно звучать. Пульт и дирижер неразрывно связаны единым световым кровообращением. Нити, которые тянет вверх дирижер («Дирижер бабочки») – суть настройка лучей. В небесной игре сияние равно звуку, тьма – тишине. Переливаясь тьмой – сиянием, дирижер управляет пучками лучей, разматывая их из себя. Это космический аналог интерактивного исполнения, только комбинации лучей – созвездий творятся движеньями глаз.
На витражах-крыльях два иероглифа.
Они симметричны, но
Библия бабочки читается слева направо:
иероглиф правого крыла – иероглиф левого крыла – Сотворение Вселенной - Музицирующий Бог.
VI. Космический гладиолус
Метафора – дирижерская палочка поэта. Кедров дирижирует Млечным Путем перед капеллой звезд, левой держа галактику, как валторну. Валторна выворачивается из мундштука в раструб; в момент их соприкосновения из галактического цветка распускается другой, также выворачивающийся и так, пока космический гладиолус из мундштуков-раструбов не разрастется во всю бесконечность.
(Звуковая модель этого процесса – Симфония ор.21 А. Веберна. Точками выворачивания зеркальной веберновской серии являются звуки тритона а - es (ля-ми-бемоль). У К. Кедрова зеркальное пространство выворачивается через звуки тритона h f (си-фа) в тембре флейты. В системе интервалов тритон-вход-зазор, через который звукоряд выворачивается в другое пространство).
«Мундштук» и «раструб» вселенского цветка – не что иное, как выгнуто-вогнутое пространство (сфера Римана-Лобачевского).
По сути, гладиолус – инверсия самого себя (самый чистый вариант инверсии) или зеркало, отражающее свое нутро.
Принципу танца линз подчиняется и устройство телескопа – инструмента для чтения звездных партитур.
Выворачивание – дыхание Вселенной.
Она дышит, выворачиваясь из микро- в макромир, соответствующие вдоху и выдоху. Конструктор Космоса Велимир Хлебников, слушавший сердцебиенье других миров, заметил в ее дыхании еще и орбитальность: «Привыкший везде на земле искать небо, я и во вдохе заметил солнце, месяц и землю. В ней малые вдохи как земля кружились кругом большого».
VII.
При движении со скоростью света звук остается позади, и дальнейшее движение продолжается по ту сторону звука.
Приближаясь к световой скорости, текст теряет вес, а масса смысла увеличивается, высвобождая его из капсулы записи. Текст тишины не может быть записан, т.к. не уместится на листе нашего сознания. Тяготение смысла внутри текста настолько велико, что из него не может вырваться даже мысль, поэтому мы воспринимаем его как Отсутствующий.
Другими словами, Отсутствующим для нас становится текст, мчащийся со скоростью света. Все физические тексты – только комментарии, окаймляющие текст тишины.
На зеркальной поверхности слуха плывет белый лебедь звука на черном зеркале тишины, а в отражении – черный лебедь безмолвия на белом озере звука (поэма «Бесконечная»).
Эти реальности параллельны, и никогда не сольются:
Это просто мамонты прокричали
Но ведь их все равно никогда
не услышат люди.
(Страна Голубой Печали)
В тембровой гамме тел Гамлета тишина связана с клавишами, а звучащая мелодия – с тембром флейты.
Но в зеркальном пространстве того света она также беззвучна.
В этом беззвучии становится слышимой речь Ангелов.
VIII. Astrum contra astrus
(звездный контрапункт)
Нидерландский полифонический контрапункт строгого письма представляет собой рисунок ночного неба, перенесенный на нотный стан. Латинское слово contrapunctus из (точка против точки) расшифровывается как «противостояние звезд».
Соединились две вещи, перед которыми благоговел Кант: звездное небо над головой и контрапункт – моральный закон музыки.
Контрапункт обладает пространственностью; Кейдж, точно перерисовав карту звездного неба на нотную бумагу, сделал небо плоским.
Млечный Путь в северном полушарии начинается со звезды Гамма в созвездии Парусов. Вот куда приводит Лестница астральных тел Гамлета, выходящая из тела флейты.
12-тоновая серийная система начинается с Великой Серии Зодиака. Цикл из 12 знаков космической серии повторяются через год (октаву времени). Каждое явление музыки имеет своего двойника в небе. Из небесной проекции родилась стереофоническая – пространственная серия, в которой звуки, как звезды, расположены не на плоскости, а как бы внутри сферы – один позади другого.
Звезды, связанные в аккорд Млечного Пути, образуют вертикальный вариант серии.
Равенство всех серийных сегментов во времени возникает в момент летнего и зимнего солнцестояния: 12 х 12.
Согласно Евангелию от Фомы, в сферическом пространстве неба низ как верх и верх как низ, правое как левое и левое как правое. С Земли же можно прочесть каждый раз только в одном направлении. Так возникают четыре способа чтения звездной серии: слева направо в прямом движении; справа налево – в ракоходе; сверху вниз или снизу вверх – в инверсии; снизу вверх (сверху вниз) в движении справа налево – в ракоходе инверсии,
12 знаков серии, умноженные на 4 способа их прочтения, дают 48 вариантов серии.
Если серия зеркальна, т.е. симметрична, то 48 поверхностей из отражений образуют бесконечную сходящуюся – расходящуюся сферу Тейяра де Шардена: Отражения отражаются сами в себе и тем самым оптически отодвигают окружность до бесконечности вдаль. В каждом звуке – центре свернута 12-ступенная гамма-Зодиак-окружность – вот что такое додекафония по Кедрову!
IX. Мистерия текста
Культ воскресения повторяется в мистерии компьютера. Умирает в компьютере и из принтера восстает Озирис-текст.
Перекодирование – переход в другую реальность, осуществляемый буквально; расчленение на символы-цифры и восстановление из плоти букв и крови тока – вот этапы мистериального действа.
Если смотреть сверху, буквенный текст книги кажется кладбищем угасших звезд. Его вкус горек, но «вкусивший эту горечь не почувствует горечи смерти», просто – через тысячу лет (или один день) – заметит, что из чаши пьет уже не чай, а звездный свет («Звездный чай»).
В заключении разговора о «евангельской» части текста книги кажется необходимым привести следующие доказательства Бытия Божия по К.Кедрову:
7 доказательств существования Бога К. Кедрова:
1.
Бог существует, потому что существует Поэзия
2.
В воздухе скомкан Бог
3.
Из неразжатых уст
вылетает слово
оно прозрачно
и оловянно
как гиперсфера
поглощенная псевдосферой
оно пульсирует
и напоминает Агни
4.
Господи, пошли мне твой чай из звезд
с лимонной долькой луны
Я сказал чаю:
– Чаю воскресения мертвых.
– И жизни будущего века –
отвечал чай.
– Аминь.
5.
Чижик-пыжик, где ты был?
Чижик-пыжик, где ты?
– Был.
6.
Свет – это голос тишины
Тишина – это голос света
Бог – это прикосновение боли
Боль – это прикосновение бога
7.
Бог есть субстанция с бесконечным множеством атрибутов
Бог есть субстанция с бесконечным множеством
Бог есть субстанция с бесконечным
Бог есть субстанция
Бог есть
Бог
Еще одной глубокой космологической аналогией метаметафоры стала система многомерных пространств в западноевропейской математике конца XIX начала XX века. Наряду со Словом, число есть великая предначальная сущность Бытия. То, что не может выразить язык каждым отдельным своим понятием – чувство бесконечного – число утверждает своим существованием. Бесконечность – высшая форма абстрактного, не имеющая земной формы. Не случайно античная философия в сияющие высшие сферы поместила небосвод Предвечных Чисел. Число, возникая в конце всякого органического бытия и энергии, не связанное чувственно с жизнью или смертью, является высшим бесконечным законом Вселенной. Оно царствует над всем материально-энергетическим космосом, подверженным преобразованиям, изменяет и перетасовывает синтаксис Вселенной, не нарушая при этом порядка целого. Могучее внутреннее родство Слова и Числа появляется в анаграмматическом свойстве языка (в принципе зеркальности), ключ к нему – в строении слова – термина, обозначающего процесс возведения плоскостного 2-х мерного пространства в эн-мерное – бесконечное.
В структуре слова Логарифм открывается главный голографический принцип строения Вселенной как зеркально заРИФМованного пространства посредством ЛОГОСа (слова- отношения). Этот единый голографический код в космологии К. Кедрова получил название метакод.
Первым шагом к метаметафоре стала замена трехмерности – а3 на эн-мерный пространственный континуум. Число «вывернулось» из своего земного значения – величины в космическое число – отношение. Млечный Путь стал функцией на кватернионах векторальной бесконечной системы координат (одна из величественных фресок распятия, начертанного в звездном пространстве).
Сакральные качества числа – покой, вечность, неуничтожимость, способность не отражения, а выражения любой неумопостигаемой сущности приближают его к божественной субстанции.
Не случайно все божественные атрибуты античных, восточных магических и христианского культов (весы, незрячесть,открывающая все визуальное, одновременность действий – операций и множественность мысли, связаны с числом и являются его свойствами.
Невыразимый символ, по своей красоте равный непроизносимому священному имени и его совершенное выражение – знак Бога – бесконечность в степени n
***
КОНСТАНТИН КЕДРОВ
"Так что же такое МЕТАМЕТАФОРА"
Только метафора новая, созданная поэтом, может стать поэтическим образом. Она-то и названа мною метаметафорой. Новизна образа — важнейший признак поэзии. Прием парафразы, конечно, допустим и в поэзии, но только в том случае, если при этом творится новое. Концептуализм, соцарт и постмодернизм построены на парафразе и не могут быть поэзией по определению. Поэзия не «пост», а «перед». Поэзия всегда авангард. У Гете во второй части «Фауста» появляется проктофантасмист — задопровидец. Поэт не может быть задопровидцем. Он по природе чужд тяготения к прошлому. Прошлое интересует его только как будущее или настоящее. В этом смысле футуризм — самое последовательное направление в поэзии, подарившее миру Хлебникова, Крученых, Пастернака, раннего Маяковского, позднюю Цветаеву, Терентьева и отчасти Введенского. Если поэт не футурист, значит он просто прозаик. Авангардизм — нормальная составляющая поэта. Рай поэта, а поэзия всегда рай, может быть переполнен страданием, но если поэт не испытывает райское блаженство, создавая стихи, и не передает это состояние души другим, значит он не обладает должной поэтической силой. Он либо прозаик, либо несостоятелен. Поэзия — словесный рай на земле и при жизни. Высшая награда поэту — сама поэзия
***
ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ №43 23.11.2007
http://www.litrossia.ru/article.php?article=2034
Свежий номер : №47. 23.11.2007
СВЕТ-ВЕСТЬ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ МЕТАМЕТАФОРА
Сначала была метафора тела. «Тысячеликий тысячеглазый Пуруша, только одна четверть твоя на земле, три четверти простираются в небо, твоё дыхание – ветер, твой взгляд – солнце, твоя мысль – луна, твоя кожа – звёздное небо, твои кости – горы». Это Упанишады. Антропокосмизм насчитывает примерно 5000 лет. Это метафора через гиперболу. Человек – Пуруша – разрастается до всего космоса. В XVII веке протопоп Аввакум в страстную пятницу в тюрьме увидит, как распространились руки его и ноги его по всей земле. Потом «весь широк и пространён под небом стал», а потом вместил в себя, небо, звёзды и всю вселенную. Он стал Пурушей. Но это ещё не метаметафора.
Мысленное разрастание до размеров и масштабов всего зримого мироздания – это антропоксмический путь, макрокосмический.
Путь теософский – низведение космоса к человеку, проекция зодиака на все части тела. Это астрология Древнего Египта. Светила и созвездия зодиака – части тела Озириса. Сердце – солнце, печень – Луна, фаллос – Скорпион и т.д. Понятно и до боли знакомо. Это теософия и опять же метафора. Теперь речь не о гиперболе, а о литоте. Весь космос уменьшен до объёмов тела и нутра.
Соединение гиперболы и литоты – метаметафора: человек, разросшийся до космоса; космос, сфокусированный в человека. Свести это воедино удавалось только на религиозно-философском уровне: «Час тоски невыразимой – всё во мне и я во всём» (Ф.Тютчев). Такой голографический пантеизм не является метаметафорой. Он слишком умозрителен и лишён телесной осязаемости.
Чтобы совместить литоту с гиперболой, достаточно всего-то навсего ощутить относительность внутреннего и внешнего. Если бесконечно малая частичка, мячик в океане, вывернется наизнанку, она вместит в себя весь океан, весь космос, все мироздание. Если всё мироздание вывернется внутрь, оно станет самой минимальной частицей. Совместив внутренне-внешнее выворачивание с выворачиванием внешне-внутренним, мы могли бы стать всей вселенной, а вселенная, став нами, вместилась бы в нас. Человек становится местом встречи двух бесконечностей.
Человек – это изнанка неба
Небо – это изнанка человека
Этот процесс я назвал «инсайдаут». А человека в состоянии инсайдаута я назвал Homo Cosmicus.
Но инсайдаут меняет не только пространство, но и время человека. Вывернутое наизнанку время – это прошлое и будущее, устремлённое в настоящее. И одновременно настоящее, вывернутое в прошлое и в будущее. Проще говоря, это вечность. Мгновение – вечность, а вечность – мгновение.
Сколько бы ни было лет у Вселенной,
у человека времени больше.
Инсайдаут тела есть оргазм, зачатие, роды, когда внутреннее становится внешним, а внешнее вбирается внутрь. Однако духовный инсайдаут – метаметафора – существует сам по себе. В инсайдауте человек рождает космос и одновременно космос рождает этого человека. В результате на свет появляется Homo Cosmicus, который внешне не отличается от Homo Sapiens, но только внешне. Внутренне он объемлет собой весь космос и в то же время вмещает его в себе. Он живёт каждое мгновение вечно и в то же время уже давно пережил свою смерть.
Моя первая встреча с метаметафорой произошла в тот момент, когда в 1957 году были написаны эти строки поэмы «Бесконечная»:
Никогда не приближусь к тебе
ближе чем цветок приближается к солнцу
Метаметафора – это бесконечное приближение цветка к солнцу и не менее бесконечное приближение солнца к цветку… Вернее, их бесконечное сближение – это просто метафора. Метаметафора – это встреча цветка и солнца.
Если не предвестием, то предчувствием метаметафоры были строки Ломоносова из «Размышлений о Божьем величии»: «Открылась бездна звёзд полна. Звёздам чисел нет, бездне дна».
Зримая бесконечность – это уже не метафора, а метаметафора. Ведь до этого (вернее, до Коперника) миллионы умных поэтов смотрели в небо, но бесконечности там не видели.
Забавно, что, разбив уютные хрустальные сферы Птолемея вокруг земли, человечество не полетело в бездну вверх тормашками (кстати, что такое эти тормашки?), а преспокойно продолжало обживать свой земной мир. Лишь к XVIII веку накопилась метафизическая смелость, позволившая поэтам воспарить с дымом над костром Джордано Бруно, давно отпылавшим.
Для взгляда бесконечность не существует. Он всегда упирается в горизонт. А горизонтом, как известно, «называется воображаемая линия». Как только воображаемая линия перестала воображать или воображаться, рухнула берлинская, она же китайская космическая стена. «Лавой беги, человечество, конницу звуков взнуздав», – восклицает звездослов Хлебников.
Но и оттуда, из космоса, ринулась к нам батыева бесконечность. Одни всадники, как нейтрино, не имеющее массы покоя, проскакали насквозь, не заметив нас. Другие рассыпались на когорты кварков, лептонов и воображаемых частиц-миров – планкионов, фридмонов и максимонов. Уже метаметафора! Уже поэзия. Впрочем, довольно физики и космологии. Кто всё-таки первый создал метаметафору? Похоже, что до 1960 года таковых не было (если было, я только обрадуюсь, но, похоже, что не было). Хотя, что я говорю, ведь уже был «Чёрный квадрат» Малевича и «Скрипка» Пикассо. И мой двоюродный дет Павел Челищев, покинув мир в 1957 году, уже оставил нам свои «внутренние ландшафты» и ангелические перспективы. Возможно, до него окольными путями, через Сергея Булгакова, дошли труды Павла Флоренского об обратной перспективе. Но, похоже, что независимо друг от друга два Павла совершили одно открытие.
Метаметафора – это обратная перспектива в слове.
Сначала я называл её двумя терминами: метафора эпохи Эйнштейна (так было на вечере Парщикова, Ерёменко, Жданова в ЦДРИ, который я провёл в 1975 году), а в своем кругу мы называли её мистериальной метафорой. Весной 1983 года ко мне в Переделкино приехали Парщиков и Свиблова и с ними финский славист Юкка Малинен. Стоя на крылечке флигеля в Доме творчества, где мы Еленой Кацюбой соседствовали с Новеллой Матвеевой, я по внезапному наитию предложил заменить развёрнутые определения одним словом – метаметафора.
– Подумают, что это метафора в квадрате, – сказал кто-то.
– Ну и пусть подумают.
– Трудно будет произнести это мета-мета-мета…
– Ничего, привыкнут, – ответил я.
Прошло 23 года, и привыкли. С лёгкостью произносят.
Итак, метаметафора в живописи возникла как обратная перспектива, а в слове воплотилась в 1960-м. Сам термин родился весной, в апреле 1983-го в Переделкино. Но дело вовсе не в хронологии. Ведь и «Троицу» Рублёва можно к обратной перспективе пристегнуть, и «Божественную комедию» Данте, как гениально это сделал Павел Флоренский.
На самом деле, до 20-го века метаметафора присутствовала в культуре так же, как символ существовал задолго до символизма. Но правильно восклицал Андрей Белый: «Если у Шекспира символизм, то зачем тогда символизм?» Всё присутствовало, всё было, но не всё доминировало.
Разница между обратной перспективой и метаметафорой весьма существенная. В обратной перспективе мир выворачивается наизнанку навстречу взору. В метаметафоре взор выворачивается наизнанку навстречу миру.
Червь, вывернувшись наизнанку чревом,
в себе вмещает яблоко и древо.
Выворачивание, или инсайдаут в звуке – это анаграмма и палиндром, вместе – палиндронавтика.
У меня это получилось в 76-м году в анаграммно-палиндромическом «До-потопном Ев-Ангел-Ие».
Свет – весть
Весть – свет
Свет – весть
Свет есть
Свет – смерть
Смерть – свет
Свет – весть
Свет есть
Смерть мертва
Атома немота
ТОТ стал ЭТОТ
Это, если хотите, человеческое эхо из бездны, «свет-весть». То, что в моей поэме «Астраль» выявлено анаграммой «звезда везде», опять же эхо на анаграмму Ломоносова «звезд – бездн».
Томимый предчувствием метаметафоры царь Давид восклицал: «Бездна бездну призывает». Мой великий друг и учитель, ученик Флоренского, имяславец, тайный схимник в миру Алексей Фёдорович Лосев говорил, что только охваченное и ограниченное бесконечно. Безграничная бесконечность – глупость. То, что не может охватить себя, не может быть бесконечным. Метаметафора – объятая бесконечность. «Бог не есть Слово, но Слово – Бог», – утверждал Лосев. Поэзия не есть метаметафора, но метаметафора – поэзия.
Метаметафора – амфора нового смысла,
как паровоз в одной лошадиной силе…
Правильнее сказать – «зеркальный паровоз»:
Зеркальный паровоз шёл
с четырёх сторон…
– Хватит, – сказал Андрей Вознесенский, прочитав эти строки, – уже всё вижу!
Если вы можете поместить себя в центр ленты Мёбиуса или в горловину бутылки Клейна, вы уже в эпицентре метаметафоры. В лабиринте бесконечная вселенная ограничена, а каждая вещь во вселенной бесконечна. Например, море и небо ограничены чреслами, а чресла бесконечны, как небо и море:
Крест из моря-горы
Крест из моря-небес
Солнцелунный мерцающий крест
Крест из ночи и дня
сквозь тебя и меня
двух друг в друга врастающих чресл.
В тексте «Конь окон» окно и конь состоят из анаграммы окн – кон, там же – икона.
На коне оконном
на окне иконном
скачи, конь голубых окон
Ты окна разверз за карниз
Ты звон, вонзающий ввысь
оскал голубой
Весь я – рама другого
небесного окна голубого
Бродского возмутила метаметафора Вознесенского «Чайка – плавки бога». Он не понял, что парящая чайка создаёт зримые очертания бесконечного тела невидимого Бога. Бродский никогда не понимал, что такое метафора. Он был тер-а-тер (земля землёй), как говорят французы, а по-нашему заземлённый. У Вознесенского «земля качается в авоське меридианов и широт», «стонет в аквариумном стекле небо, приваренное к земле». Это близко к метаметафоре, очень близко. Но метаметафора требует геометрии Римана или Лобачевского, проще говоря, ей присущ визуальный (зрительный), и смысловой, и звуковой сюр.
Ларинголог заглядывает в глаза
Сад ослеп
Обнажённые рёбра
белым плугом врезаются в почву
Сад проросший плугами
Мертвящая пустошь ребёнка
Бесконечность, уходящая в глубь смысловой воронки строки и слова – это метаметафора.
Я язычник языка
Я янычар чар
Язык мой немой
не мой
Слова вкладываются друг в друга, большее исходит из меньшего, а меньшее охватывает собою большее.
Так взасос устремляется море к луне
Так взасос пьёт священник из чаши церковной
Так младенец причмокивает во сне
жертвой будущей обескровлен
Формула метаметафоры внешне проста. Она дана в моей докторской диссертации:
МИР Я
———– = ————
Я МИР
Однако в итоге Я МИРА, но Я Я. Проще говоря, в метаметафоре Я Я. Ещё уместнее были бы здесь формулы теоремы выворачивания из топологии (не путать с патологией), но язык высшей математики слишком холоден. Поэзия ютится в школьной арифметике, согретой сопением над простейшей задачкой без малейшей надежды её решить. В этом смысле метаметафора может обойтись вообще без математики, но не без геометрии Римана, поскольку это зрение ангелов.
Дирижёр бабочки тянет ввысь нити
Он то отражается то сияет
Бабочка зеркальна и он зеркален
Кто кого поймает – никто не знает
Поэзии может обойтись без метаметафоры, но метаметафора без поэзии не бывает.
В человеке есть оранжевость
но нету нутра
он летит как колодезный журавль
вокруг тела
и хотя каждый раз возвращается
под углом на круги своя
в нем небесное опережает земное
чем выше взлёт
тем больше глубина
можно пунктиром продолжить путь
за предел предела
Однажды я попытался представить жизнь без метаметафоры и понял, что такая жизнь просто не существует.
***
Юрий Линник
доктор философских наук, профессор Карельского педагогического университета
Петрозаваодск
Трансметафора
Cedroviana
Константин Кедров в истории русской культуры – явление предельно самобытное и резко нетривиальное. Он универсален: поэт – филолог – философ – художник – педагог в одном лице; скрепляющей основой этой много испостасности является космизм. Я бы уточнил: космизм экзистенциально – диалектический – обретший остро парадоксальную форму. Гегель считал себя конечной вершиной диалектики. У Константина Кедрова больше прав на эту позицию: он действительно ставит точку в развитии диалектических идей – и это взрывчатая точка сингулярности, в которой бытие выворачивается наизнанку, обнаруживая свою глубинную суть.
О переходе противоположностей друг в друга философы говорят давно. Малое может обернуться великим. Такова геометрия Анаксагора: пылинка здесь беременна Универсумом. Ошеломляет и лейбницевская монада: часть тут эквивалентна целому – фрактально вмещает его в себе. Или вспомним другую, близкую по духу традицию: первочеловек Пуруша, принося себя в жертву, становится Вселенной. За всеми этими представлениями стоят фундаментальные архетипы. Единственный современный мыслитель, чувствующий их значимость и мощь – это Константин Кедров: начатое предшественниками – и часто эскизное, как бы недоговоренное – получает у него абсолютно полное и совершенное выражение. Это диалектика в ее экстремальном или радикальном виде – когда замыкаются на себя, искря космогонией, крайние, для обыденного сознания абсолютно несовместимые противоположности. Их переход друг в друга для Кедрова – это инверсия: когда исподняя и лицевая грани бытия меняются местами, обнаруживая как свое несходство, так и неожиданную амбивалентность.
Вот важнейший момент: диалектика этого перехода у Кедрова подвергается тотальной антропологизации. Это значит, что снимается извечная альтернатива онтологизма и персонализма – осуществляется мощнейший философский синтез. Мое конкретное «я», выявляя свою наоборотность при пересечении таинственного средостения, становится сразу и космосом, и его демиургом. Цепь причинности тут обретает структуру круга. Однако он не тавтологичен. Хотя альфа с омегой рокировались, но это не значит, что различия между ними стерты. Бог остается Богом – человек остается человеком. Но не в том ли состоит суть мирового ритма, что они периодически должны меняться местами? Это вовсе не круговорот. Ведь каждая фаза цикла несет новизну! Эволюционирует и Бог, и человек – пересменка дает много обоим.
Перед нами авангардистская диалектика. Закономерно, что она создана поэтом-философом – достойным наследником Хлебникова и Крученыха. Онтологические переворачивания, о которых говорит Константин Кедров, обязательно предполагают обращение смыслов, что входит в компетенцию не только логики, но и поэзии. Преимущественно именно поэзии! Она первой овладела искусством метаморфозы. Творимые ею превращения фиксируются в метафорах. Что будет, если превращение захватит посюстороннее и потустороннее – имманентное и трансцендентное? Поэту тогда придется углубить метафору в онтологическое зазеркалье. Она неизбежно станет транс-метафорой – или мета-метафорой: данный термин – но без дефиса в своем написании – стал девизом целой поэтической школы, созданной Константином Кедровым. Афанасий Александрийский писал: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». Кедров динамизирует эту удивительную зеркальную симметрию. Поэзия в нем и через него пришла к идее теозиса – и это апофеоз поэзии: она еще раз показала – и ведь как блистательно! – божественность своей природы.
Бабочка – метафора цветка
(о новой поэме Константина Кедрова «Фиалкиада»)
1. Это словесные заросли. Verba тут сплетается с Herba. Семантическую чащу нельзя прочесать анализом. Лучше сдаться ей. И позволить лианам тропов опутать рассудок – внедриться в бессознательное – прорасти сквозь него.
2. Рост растения похож на рождение стиха. Это глубоко чувствовал И.-В.Гете. В 1790 г. он издал «опыт объяснения метаморфоза растения». Там показано: все части растения – от семядолей до тычинок и пестиков – являются превращениями листа. Метаморфоз – в биологии, метафора – в поэзии. Два разноуровневых процесса во многом параллельны друг другу. Стиху Константина Кедрова присуща растительная органичность.
3. Водное зеркало, в которое смотрел Нарцисс, было необычным. Мало того, что оно сотворило метафору отражения – перенесло юношу за грань реальности: инверсии получили продолжение в метаметафоре – человек стал растением. «Фиалкиада» Константина Кедрова сродни ботаническим сюжетам «Метаморфоз» Овидия.
4. Цветок орхидеи – метафора ее листьев. Когда этот цветок становится похожим на бабочку или шмеля, то метафора перерастает в метаметафору: растение экспериментирует в авангардистском духе, ломая и модифицируя каноническую форму. Явление это редчайшее. Осваивая искусство перевоплощения, орхидеи нащупывают контакт с иной формой жизни – пытается уподобиться ей. В своих метаметафорах Константин кедров повторяет этот алгоритм на несравненно более высокой ступени: цепная реакция превращений у него максималистки завершается теозисом – полным уподоблением человека Богу-Творцу. Фантастика растительных метаморфоз предсказывает поэтику метаметафоры.
5. «пишут Ван Гога маки
пишут Моне кувшинки
пишет тебя сирень»
Бездонная философия заложена в этих смысловых перевертнях. Инверсия патологична. Вывернувшись наизнанку, Единое предстало как Многое. Исподом Ничто является Всё.
Субъект и объект – амбивалентны. Самая сильная обратная связь заключена именно в инверсии. Константин Кедров инверсирует тварное и нетварное – земное и небесное – внешнее и внутреннее – природное и художническое – реальное и вымышленное. Инверсии у поэта имеют форму игры. Игры божественной! Ведь Бог творит играючи. Больше всего он любит палиндромы. Тардионы и тахионы; частицы и античастицы; материя обычная и материя зеркальная: это физические перевертни. Биос тоже любит инверсии, закручивая то правые, то левые спирали. Константин кедров подхватывает эту эстафету. Моне пишет кувшинки – кувшинки пишут Моне. Через игру здесь выявляются новые глубины мировой гармонии.
6. Поэтические инверсии смыслов могут говорить о необратимом. Такова дефлорация. «Оля сорвет василек / Олю сорвет Василек». Возвращайтесь в цветы! Поэт хочет порчу обратить в целомудрие. Это возможно. Однако не здесь, а там: в трансцендентном занебесьи – после Преображения.
Поэтика Преображения – это поэтика инверсии.
7. Почему именно русские ботаники внесли самый фундаментальный вклад в теорию симбиоза? Возможно, она в неявной форме резонирует с идеей соборности, получившей особый отклик в русском сознании. Симбиоз нераздельно и неслиянно соединяет разнородное. «Фиалкиада» являет чудо словесного симбиоза. «Гамма Гамлета тонет в гаме». Аллитерация может быть понята как звуковой симбиоз. Метафора тоже есть род симбиоза. В неожиданном сращении смыслов могут обнаруживаться глубинные экзистенциальные созвучия: «Сад словесный рыдающий как Кьеркегор». На пажитях «Фиалкиады» бурно произрастают центоны. Всегда неожиданный и непредсказуемый симбиоз тут роднит разные тексты, разных авторов, разные стилистики. Маяковский в «Фиалкиаде» пересекается с Данте. Это симбиоз времен, похожий на вечность.
8. Вероятно, у растений есть психика – и это досознательная, бессознательная психика. Она в своеобычной форме проявляет премирные архетипы. Семейство крестоцветных: разве оно не пророчит о Голгофе? Бессознательное питало сюрреализм. Это особая тема: растительные мотивы в сюрреализме. Исключительная способность растений к трансформации выигрышна для поэтики сюрреализма. Впрочем, задолго до Дали и Эрнста это уловил гротеск: животное и человеческое там с легкостью овидиевых метаморфоз превращается в растительное.
«Фиалкиада» сюрреалистична. В ней много гротескного. Так из лилии вышел Христос – это образ вполне переводим на графический язык гротеска. Лилия у Константина Кедрова обнаруживает беспрецедентный дар превращений. Она становится аналогом лотоса – запускает космогонический процесс:
«Эта лилия словно
небесное лоно
породила весь мир
и царя Соломона»
Потом она оказалась в руках архангела Гавриила. Благовещенье осуществило величайшую метаметафору!
Превращение лилии продолжаются. Вот мертвой Офелией она плывет по английской реке. Но почему к воде примешивается русская кровь? О самоубийстве в «Фиалкиаде» сказано гениально: «Он в себя стрелял из несебя». Лилия архангела Гавриила обернулась Лилей Брик. Белое Благовещенье опрокинулось в черное Зазеркалье.
9. Есть симбиоз и есть разрыв. Две силы – две тенденции – два полюса. Вы над садом? Мы с надсадом. Вы из сада?
Мы из Ада. Фонетика размывает противоположные значения. Жизнь делает то же самое. «Фиалкиада» полна разрывов.
Гармония цветов соседствует с диссонансами бытия. Соловьи – и выстрелы, хоралы – и взрывы: таково акустическое пространство «Фиалкиады». Сюрреализм поэмы трагичен. Марина Цветаева писала: «За этот бред / пошли мне сад». Сад Константина Кедрова бредит. И галлюцинирует! Но за бессвязностью бреда проступают грандиозные смыслы. На взорванном мосту стоит Данте. Потом его сменяет Флоренский – Флоренция празднует Пасху. Вот Флоренский и Данте стоят одесную и ошуюю Кедрова. Поэзия прорывается в вечность. Это тоже инверсия: время, переходя некий онтологический рубеж, становится антивременем – вечностью. Подлинное призвание поэзии – ее миссии – заключается в инверсии этих уровней. Фиалки нашего земного Ада она спасла от окончательной потравы. Приживутся ли они в садах Эдема? Дай то Бог.
***
Александр Люсый
Распятие словом
(Кедров К.А. “ИЛИ”. Полное собрание сочинений)
Эта книга – картина Куликова, Бородина отечественной словесности, на поле которого в роли Пересвета и Челубея оказались Пушкин и Дантес. Автор Константин Кедров – Верещагин нашего времени, с “Лермонтолета” обозревающий, как “залпы тысячи орудий // слились в протяжный вой Ивана Ильича // не хочу-у-у-у-у-у-у-у”, переходящий в руду черепов.
Это калейдоскопическое обозрение горы фонетически или метафорически однокоренных тел-слов имеет свою структуру, выражаемую в рефлексии, что “может быть гора кровавых тел // не может быть горою никогда // поскольку тело больше // чем гора любая”. Так что это Верещагин “Апофеоза любви” (а не смерти). Поле слово-боя разделено “нежной линией мажино”, ахейцы держат риторическую оборону “у входа в Елену”.
В истории “линия Мажино” осталась военно-декоративным, все время обходимым противником с тыла сооружением, оказавшись апофеозом “странной” войны. По посткуликово-бородинскому полю именно такой войны бродят не менее причудливые скелеты времени в виде распятий и “крестом беременных” дев. Мозг самого поэта больше “не будучи спрессован черепом // расправляя извилины растекался небом”. Оплодотворенное поэтическим мозгом мироздание внешне выглядит, если направить взгляд к небу, как вселенская газета (“читаемая насквозь // каждая буква прозрачна до звезд”). И если смотреть вглубь неба (“извлекая корень из глубины”), открывается глобальный, пронзающий “Солнце-лунный мерцающий крест // крест из ночи и дня сквозь тебя и меня // двух друг в друга врастающих чресл”. Поэт существует, “космологея”. В постигаемой в ходе такого процесса космологии “время это пространство, свернувшееся в клубок”, а “вечность это недисциплинированное время”. Обращение к Канту позволяет сделать и более радикальные определения: “пространство – это транс Канта // а время – ****ь // сука-сволочь-проститутка-Троцкий” (так поэт кедрит Канта Калиниградом). Уровень космологичности позволят уловить ритм мироздания, то сжимающегося, когда “в смутном воздухе скомкан Бог”, “в точку пули Дантеса” (как это произошло с армией Бонапарта, “дабы в битве Кутузов – Наполеон // победила ДРУЖБА”), то разбегающегося в вечном буддистском взрыве. Но буддистский ритм не отменяет крестообразную мировую структуру. В шахматной эпопее “Или” “Ферзь – Христос // ставит мат вечным ходом”. В результате такого вечного шах-мата вечный “Лазарь встал но гроб остался внутри”. И опять “Гроб раскрывается как шахматная доска // из него высыпаются шахматные фигуры // и разбегаются кто куда”. У Лазаря сохраняется шанс ферзем вывинтиться из гроба, “выигрывая себя”. Подобно Набокову-шахматисту, Кедров проявляет больший интерес к шахматным этюдам, а не игре как состязанию. В этюде “Распятие” “На кресте // Христос рокируется // с Буддой // впадая в нирвану // Будда играет в шахматы // Все фигурки // к которым он прикасается // становятся Буддой // и тоже играют в шахматы // Невозможно понять // Будда // играет в шахматы // или // шахматы играют в Будду // Христос играет в шахматы - // все фигурки // к которым он прикасается // превращаются в распятия”.
Если отдаться на волю устанавливаемой Кедровым логике выворачивания мироздания сверху до низу (на уровне микромира наглядно демонстрируемой взаимопереходом чрева в червя и наоборот), оттолкнувшись при этом от отношения автора к Пушкину-персонажу, то сам автор может предстать в качестве такого сказочного пушкинского персонажа, как Голова. Не ей ли, обладающей возможностью стать всадником с головой, обращен призыв: “распрямись на мозговом коне”? Кстати сказать, Голова, по наблюдению В.А.Кошелева, единственный трагический персонаж веселой поэмы Пушкина “Руслан и Людмила”. Но в данном случае речь идет об “Ура-трагедии”, как называется одна из коротких драматических поэм, в которой ставятся посткуликовые гамлетовские риторические вопросы, проясняющие, в частности, и смысл названия книги. Сам Шекспир, выступающий тут вместе со Спинозой, Радищевым, Львом Толстым, Бетховеном, Мальтусом, Чайковским, Фрейдом, неизменным Пушкиным и другими (странно, однако, что среди них нет философов-лингвистов) ставит вопрос не совсем по гамлетовски: “Быть? // Или быть “или”? // Или!”. Личное открытие автор декларирует в своей поэтической “Конституции”: “Граждане имеют право быть // или не быть // граждане имеют право на или”.
Лозунг посылающих граждан на “или” “Конституции”: “Гениталии всех стран соединяйтесь” показывает, что поэзия Кедрова не носит строго “головного” характера. Здесь можно вести речь письме древнегреческим способом бустрофедона (как пашут волами), когда одна строка идет слева направо, а другая – наоборот. То есть, в одну строну словопол пашется головой, а в другую – тем, заместителем чего, по Фрейду, стал гоголевский Нос (у Кедрова не пародируемый, а ритуально обожествляемый). Забавно при этом выглядит в стихотворении “Холин” (“монсТРанс // поэзии // эзопии // пирвовремячуменец”) авторская сноска (т.е., получается – самоссылка) с оправданием использования ненормативной лексики тем, что так считал нужным делать сам Холин (тогда как в эпиграфе холинское же обращение к автору: “Костя, никого не слушайте, делайте, что хотите”).
Кедров – мастер поэтического афоризма, мелькающего, подобно молнии, среди плотной дождевой стены чистой (“литавры Таврии”, “файное фа”) звукописи: “Нотный стан – звуковая клетка для птиц // Птицы – ускользающие ноты… Тишина – партитура, забитая нотами до отказа” (неясно, учитывает ли автор все смыслы слова “забитая”). Порою афоризмы имеют так же элементы своеобразного поэтического бустрофедона, как в “Полиндронавтике” – первая строка представляет собой посыл, вторая – возвращающийся к себе палиндром: “Господи пошли мне твой тихий стих // ХИТРО ОР ТИХ”. Это позволяет охарактеризовать автора в качестве поэтического аналога Ларошфуко. Ларошфуко, стремящегося к Паскалю (в построенной с использованием математических знаков “Формуле любви” стрелка стремления людей друг к другу, множеству или бесконечности играет ключевую роль). Поэт, по его словам “отченашу сингулируя в до рояль”; при этом приходит на ум знаменитый философский монастырь Пор-Рояль.
Таким образом, при очевидном стремлении возродить в русской поэзии насильственно прерванные традиции футуризма творчество Кедрова представляет собой просвещенческий тип культуры (на фоне объективно возрожденческой фигуры Вознесенского). Ибо традиции эти он не столько возрождает, сколько создает заново, засевая на обрисованном выше поле. Со всеми “париковыми” просвещенческими издержками “лесбийских ласк” Марии-Антуанетты и гильотины.
Когда-то Андрей Белый сравнивал себя с Тредиаковским, открывающим дверь новому Пушкину. Кедров занимается аналогичной выработкой языка, разрушением “последнего условного знака” открытым в будущее. Который будет способен “открыть птицам поэзию Маяковского”, превращаясь в язык вселенской безусловности.
***Михаил Дзюбенко
Пролегомены к изучению поэзии К.Кедрова (фрагменты)
Кедров принадлежит к тем редким поэтам, которые создают не только текст, но и код, то есть основу не только своих текстов. Таковы в ушедшем столетии были Белый, Хлебников, Маяковский. И поэтому нет ничего худого в том, что Кедров для многих – прежде всего учитель. В Литературном институте помнят его лекции, которые были не просто по русской литературе, но одновременно – по основам мироздания. Среди его учеников – Жданов, Парщиков, Ерёменко... И всех этих поэтов роднит код – метакод и метаметафора.
По Кедрову, в основе природы и культуры, объединяя их, лежит метакод – система символов и знаков, указывающая на единство человека и Вселенной, указывающая человеку путь к вечной жизни. Получается, что индивидуальный код Кедрова имеет сверхличный и общекультурный характер, что соответственным образом расширяет и значение творчества Кедрова. Издательство “Мысль” недавно выпустило книгу статей Кедрова “Инсайдаут”, так что с идеями нашего автора читатели уже знакомы. И всё же необходимо систематизировать их с опорой на поэтические тексты.
Человек составляет с Космосом двуединое тело:
В это непролазное небо
вламываются тела из ломоты
Я пишу птицами
как кистями
Они мне во всём послушны
обмакиваемые в небо
Эти отношения подобны отношениям влюблённых:
Потому что небо только кровать
где не уместиться даже двоим
потому что нет края того ковра
самолёта
на котором мы все летим
Внутренний мир человека так же неисчерпаем, как внешний мир Космоса.
Ещё я верю
что душа безмерна
в ней как в пространстве
прячется луна
свернувшая в клубок
свои орбиты
Внешнее и внутреннее относительны:
Газеты врут и врут календари
а я не календарь и не газета
я выпилен из нового глазета
и у меня снаружи - что внутри.
Мир создан по антропному принципу, т.е. все его характеристики соответствуют человеку и предполагают его присутствие в этом мире:
В конечном счёте ты – только шрифт,
рассыпанный по лугам,
всё состоит из себя во всём,
будет луг твой, как голубок.
Теория относительности и квантовая механика, все их данные о трансформациях времени-пространства при изменениях скорости движения и двойственной природе элементарных частиц, являются не абстрактной физической теорией, а описанием человеческой реальности:
вот ударился о плоскость луча
вот изошёл волновым светом
и одновременно раздробился
до неразличимости
Переход от внутреннего к внешнему осуществляется путём выворачивания (инсайдаута), при котором внутренний мир охватывает всю Вселенную:
Вылепил телом я звёздную глыбу,
где шестерёнки лучей
тело моё высотой щекочут
из голубого огня.
Обтекая галактику селезёнкой,
Я улиткой звёздной вполз в себя,
медленно волоча за собой
вихревую галактику,
как ракушку...
Скорость света, являющаяся теоретическим пределом скорости движения физического тела, при выворачивании преодолевается. Сверхсветовая скорость - результат выворачивания:
полупрозрачный ангел стал прозрачным
сквозь ангела окно я увидал тот свет
он был как я отнюдь не бесконечен
События происходят на линиях мировых событий и при проходе этих линий через одни и те же точки могут повторяться, хотя бы и с другими людьми. Таково космологическое объяснение феномена пародии:
Я не Людвиг ван Бетховен
и не Стринберг-Метерлинкен
Я не Мунк не Мунк я Софья-правозащитница
Саранск находится на стыке всех географий
линейный радиус португальца
простирается в никуда
Отношения между людьми, равно как и литературные сюжеты, строятся на основе звёздного кода:
Мне не нужна без тебя вселенная
истина эта проста как опять
я повернул своё время вспять
чтобы не видеть тебя никогда
Однако философия Кедрова – не преднайденная догма, пересказываемая и иллюстрируемая средствами поэтического языка. Как всякий код, она содержится в самом языке, более того - является его основой. Паронимия, звуковые переклички, перемена грамматических позиций выражают единство двух тел, их взаимное выворачивание:
за пределами мысли тела
тело ежится в неге мысли
мысль нежнеет в изгибах тела
В космосе два тела образуют не субъект-объектное, а субъектсубъектное единство.
Люди в мире существуют там,
где нежится в отражении отражение
События движутся навстречу и, отражаясь друг от друга, возвращаются к самим участникам. Отсюда обилие возвратных постфиксов и местоимений:
только бы чувствовать
тобой своё Я...
только бы находить себя в твоём Я
только бы не отделять
себя от тебя...
только бы
сближаться сближаться сближаться
Нечасто встречающаяся в стихах Кедрова рифма - знак пересечения линий мировых событий:
Ах, Левин, Левин
Прощай, Каренина
Здравствуй, паровоз с телом Ленина
Поэзия Кедрова иероглифична. Переставляя слова и части слов, как разные черты одного иероглифа, он добивается извлечения максимального смысла, хотя этот смысл и не может быть пересказан прозаическим языком литературоведа:
Научи меня Веласкес ласке веса
и света отсвета
Кедров разрабатывает любовную эсхатологию. Конец света утрачивает в его поэзии грозный характер, становится моментом освобождения, пробуждения для небесной жизни и слияния со светом:
Пусть небо свернётся в клубок
под солнечным одеялом
Неологизмы, в которых морфемная структура, противореча образцам склонения, выражает единство двух родов:
милый мой
левёночек
и
правёнышь
К последнему слову сделано примечание: “Мягкий знак на конце – это ошибка”. Действительно, с точки зрения словообразовательных моделей современного русского языка, с суффиксами -(ён)ыш образуются только существительные мужского рода: зверёныш. Однако Кедрову нужно показать единство мужского и женского, и потому к этому слову он, по законам третьего склонения имён существительных, куда входят, как известно, только слова женского рода с нулевым окончанием на -ь, прибавил мягкий знак.
Грамматическая свобода – выражение освобождения от смерти, ибо грамматика – свидетельство тленности языка:
Как в грамматике где нет правил
не с глаголами не отдельно а вместе
в каждой памяти есть провал
где живые с мёртвыми вместе
Кедрову свойственна большая поэтическая свобода, совершенно исключающая догматизм.
Смену визуальных перспектив он передаёт сменой перспектив языковых:
Вижу я за горизонтом тонет оса и мысль
Нет ничего воздушнее чем Саломея
Поэзия Кедрова чрезвычайно разнообразна и тематически, и стилистически, но всегда узнаваема. Он может обыгрывать разные культурные парадигмы, например рококо:
Амур любил Психею.
а Психея
любви его не ведала,
психуя.
Их поглотила всех
стихов стихия -
Амура, стих
и психику Психеи.
Однако самые устойчивые образы кедровской поэзии восходят к Библии, прежде всего - к Псалтыри, и к духовным стихам. Один из излюбленных – образ летящего копья, стрелы, нередко встречающийся в псалмах и молитвах: “Утиши стремление страстем, и угаси телесное разжжение, и стрелы лукаваго, яже на ны лукавно движимыя...” (Молитва св. Антиоха мниха из малой павечерницы).
Кедров осмысляет его как знак движущегося события:
Растерянно стрела летела,
не задевая тела,
летела вдаль стрела ночная,
дробя осколки дня.
Медленно летит стрела, дробя тела.
Кедров создал свою неповторимую интонацию, в которой сочетаются игра и философское рассуждение. Это именно интонация, заключённая в самом тексте.
Здесь он близко подходит к архаическим языкам, в которых интонация является
внутренним свойством текста. Отсюда и внимание позднего К. к звуковой гам
ме - пифагоровой:
верхний ярус Воздуха - ФА
второй ярус Воды - ДО
третий ярус Огня - ЛЯ
четвёртый ярус Земли – МИ
Один из первых манифестов такого подхода к языку - кедровский октоих (осмогласник) “Верфьлием”. Этим оригинальным текстом утверждается, что в поэзии заложены те тоны (гласы), которые свойственны богослужебным песнопениям и выражают различные отношения к миру и Богу.
Поэзия Кедрова представляет собой пародийное (даже киническое, в древне греческом смысле слова) разыгрывание философии по ролям. Он создал особый жанр философско-драматической поэмы. Силлогизмы происходят как переразложения слов. Иначе говоря, течение мысли оформляется как течение звуков; последовательность мыслей - как последовательность звуков.
С середины 80-х годов в поэзии Кедрова стремительно возрастает мистериальность, которая и до этого подспудно присутствовала в его текстах. Эта мистериальность может являться игрой, пародией на сценарий и т.д.; она одновременно – и ролевой розыгрыш космологических уравнений или мысленных экспериментов. По всей видимости, это связано с тем театральным контекстом, в котором Кедров рос и который подарил ему такое мировосприятие:
Архитектор свободы
построил карманный храм
войди в него
он в твоём кармане
Поэзия Кедрова яфетична в том смысле, в каком это слово употреблял Н.Я.Марр, развивая новое учение о языке. Так, он писал: “...Птицы воспринимались как 'небо', как его часть, его долевая эпифания, и потому оказалось, что названия птиц, как выясняет яфетическая палеонтология, как общие, так и частные или видовые, означают собственно 'небо', 'небеса', лишь впоследствии, по выработке уменьшительных форм, 'небесята'”. Яркая иллюстрация яфетичности кедровской поэзии - поэма “Астраль”.
Три вершинных достижения кедровской поэзии - поэмы “Компьютер любви”, “Партант” и “Одиннадцатая заповедь”. Первая из них – последовательность парадоксальных описаний-уравнений-определений. Вторая - внешне образец дадаистского автоматического письма, а по сути - попытка вырваться запределы одного языка, навязывающего и тем ограничивающего взгляд. Третья – дивинация.
За всем этим стоит духовный стих как синтетический жанр, к которому Кедров пришёл от ранней своей поэтики, наследовавшей серебряному веку. Именно духовный стих, в единстве богословия, философии, сюжета, интонации и личности его рассказчика - калики, есть главный жанр кедровской поэзии. Однако неповторимость поэта, который “за границей был, но сверху”, в том, что он не идёт, а летит - не по земле, а по Вселенной.
Свидетельство о публикации №108082300651