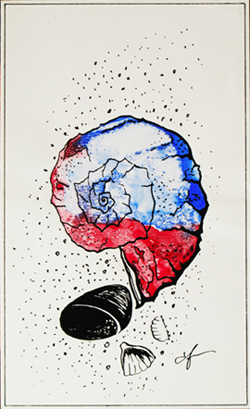Синоптикам
Сентябрь обещают сухим и тёплым;
можно не дёргаться чистить стёкла;
только вот что-то в душе промокло;
вот и ходи теперь посуху мокрым.
Вот и ходи, как ходили рыбы,
чтобы не вымереть за спасибо,
слизь, чешую обдирая, ибо
жизни отлив оставляет глыбы.
Не переждёшь тот отлив ни сам, ни
кто-то другой - не позволят кремни;
и безразлично, кричишь ли, нем ли:
всё, что осталось - любовь да камни.
Всё, что осталось тебе - свобода
принадлежать ни земле, ни водам;
будешь не предан никем, не продан:
тот, кто ничей, тот уже природа.
28.08.07.
Свидетельство о публикации №108072001787
Предлагаю всё-таки продолжить наш разговор об Аристотеле, начатый с его «Поэтики». Принимаясь за это очередное рассуждение, я могу честно признаться, что понятия не имею, какие размеры и очертания оно в итоге может принять. Но будь что будет, ведь никакие предполагаемые трудности в этом деле уже не способны меня остановить. Прежде всего, как обычно, попытаюсь бегло провозгласить те принципы, которые лягут в основу начинаемой мною лекции (использовать в данном случае слово ''эссе'' я точно не рискну, так как в случае с Ар, в отличие от ситуации с Есениным, оно точно будет не к месту). «Риторика» — это довольно внушительный труд, который раз примерно в пять объёмнее «Поэтики». И не исключено, что настолько же содержательнее. Таким образом, прямо с порога хочу заявить, что я, конечно, сделаю всё возможное, чтобы не затягивать своё повествование, — в конце концов, мы же не на философском курсе в МГУ или в Сорбонне, — однако ручаться в таком щекотливом деле, увы, ни за что не могу. Зная себя, с точностью могу сказать, что во многих местах мне непременно захочется прибегнуть к каким-нибудь отступлениям, поэтому предложу следующее: я буду непринуждённо и без оглядки на количество страниц говорить об этом трактате, а коли получится ''слишком много слов'' (как сказал когда-то В.Набоков об одном из стихов И.Б.), то Вы уж, пожалуйста, меня простите за нарушение заведённого у нас формата. Что до той чужеродности, которую Вы испытали относительно его (Аристотеля) типа мышления, то эта сторона дела мне, признаться, очень даже понятна. Собственно, потому-то я и предложил свои услуги в качестве интерпретатора. Просто за долгое время знакомства с этим автором я, как мне кажется, научился понимать его причудливый язык, где довольно много лишнего и несущественного. Однако предметы его исследования, как и способ его изложения, по-моему, всё же и легче, и содержательнее, и актуальнее, чем аналогичные построения тех же Спинозы, Канта или Гегеля.
Теперь переходим непосредственно к «Риторике». Здесь, пожалуй, стоит отметить, что сам Аристотель изобретение риторики приписывал пифагорейцу Эмпедоклу, жившему в V веке до н. э. Но каков же был посыл у автора, когда он брался за сей труд? Всё очень просто: определив риторику как ораторское искусство, или искусство убеждения, Ар при рассмотрении многочисленных систем, существовавших ранее, с присущей ему проницательностью обнаружил наличие в них немалого количества изъянов. Главный же изъян заключался в том, что помимо собственно доказательств, которые одни только и обладают законным правом убеждения, все предыдущие риторические концепции строились и на различного рода приложениях, которые, в строгом смысле слова, к делу вовсе не относятся. Пожалуйста, Майкл, держите в уме эпоху, в которую жил Ар (об этом я коротко писал в предыдущей ''лекции''), а стало быть, главной ареной для риторических упражнений тогда был именно суд, где граждане, отстаивая свои права, как обвиняли кого-либо сами, так и защищались от чьих-либо обвинений. Думаю, «Апология Сократа» Платона, о которой мы говорили не так давно, даёт Вам хотя бы схематичное представление о том, как выглядел этот орган, стоящий тогда (да и сейчас) на страже справедливости. Так вот, под упомянутыми выше приложениями, которые влияют на решение суда, но влияют как бы не совсем законно, подразумеваются различные спецэффекты a la сострадание, гнев, клевета и пр. Как Вы понимаете, подобные движения души справедливо отнести скорее к влиянию на личность судьи, а никак не к рассматриваемому им делу. С другой стороны, Ар видел, что энтимемы, составляющие суть доказательства, большинством тогдашних риторов попросту игнорировались.
Чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу постараюсь раскрыть смысл понятия ЭНТИМЕМА (в переводе с греческого ''энтимема'' буквально означает ''в уме''). На самом деле энтимема — это не что иное, но сокращённый силлогизм, каковой, в свою очередь, есть обычное индуктивное умозаключение (на всякий случай, вдруг кто не знает, индукция — метод мышления, когда из частных положений выводится нечто общее), однако у Аристотеля этот термин означает именно риторическое доказательство, которое имеет своей целью убеждение. Иными словами, энтимема — это такой силлогизм, где некоторые из его составляющих не формулируются явно, а лишь подразумеваются, то есть одна из посылок или заключение опущены. Попробую придумать пример. Силлогизм, напомню, обычно состоит из большой и малой посылок, а также из заключения.
а) Вот малая посылка: Бродский написал много прекрасных стихов.
б) Вот большая посылка: человек, написавший много прекрасных стихов, является великим поэтом.
в) И наконец заключение, следующее из двух предыдущих посылок: Бродский — великий поэт.
Существует три вида энтимем, которые отличаются друг от друга по пропущенной части силлогизма: 1) энтимема с пропущенной малой посылкой; 2) энтимема с пропущенной большой посылкой; 3) энтимема с пропущенным заключением. Попробуем сотворить из предложенного мною выше силлогизма все три вида энтимем.
а) Как человек, написавший много прекрасных стихов, Бродский — великий поэт (здесь пропущена малая посылка, так как явно не звучит, что Бродский написал много прекрасных стихов);
б) Бродский написал много прекрасных стихов и стал великим поэтом (здесь пропущена большая посылка);
в) Бродский написал много прекрасных стихов, а написавший много прекрасных стихов — великий поэт (в этом варианте пропущено заключение).
Таким образом, из одного силлогизма я построил три разные энтимемы.
Для Ар казалось очевидным, что любая тяжба (где-нибудь ниже я постараюсь экстраполировать всё это на те полемические курьёзы, с которыми мы сталкиваемся на просторах стихи.ру) в итоге сводится не к чему-то иному, но к доказательству того, имел или не имел место какой-нибудь факт. Относительно же важности или справедливости самого этого факта, если об этом не сказано в законе, судья (или в нашем случае просто читатель, который тоже пытается судить о чём-то, причём делает это исходя из собственной субъективности) уже должен иметь своё собственное мнение, а не полагаться в таком деле на мнение тяжущихся. Разумеется, чем лучше написаны законы — тем меньше остаётся на откуп судьям. Тем не менее роль последних всегда достаточно высока, поскольку законодательство как таковое имеет довольно общий характер и направлено на будущее, в то время как судьи имеют дело с отдельными случаями и выносят вердикты здесь, в настоящем. Стало быть, степень пристрастия, как ни крути, но влияет на исход дела, а значит, можно смело констатировать, что эмоции в той или иной степени, но мешают вершащему суд видеть истину. Сократа, как Вы помните, засудили чисто на эмоциях, а потому во избежание подобных ситуаций роль судьи, как уже было сказано, должна быть сведена к вынесению заключения относительно того, имел место такой-то факт или не имел. Стоит сказать, что уже в самом начале рассматриваемой работы Ар определяет риторику как искусство, цель которого находить способы убеждения. Само по себе оно в определённой степени соответствует диалектике, так как и то и другое не касается какого-нибудь отдельного класса предметов, но имеет отношение буквально ко всему на свете (оговорюсь, что под диалектикой здесь я подразумеваю отнюдь не способ существования, который всегда вкладывался в это понятие мною, но процесс научного исследования, то есть именно то, что понимал под этим словом Аристотель). Однако я дам следующее пояснение: диалектика делает своё дело, что называется, внутри, а риторика — снаружи. Думаю, Майкл, что у вас ещё свеж в памяти тот полемический эпизод, когда одна из моих оппоненток приволокла и вытряхнула своё ''мнение'', но по причине абсолютной риторической дезориентации и диалектической путаницы она совершенно не знала, что же ей с этим мнением нужно делать. Мало того, она даже не представляла себе, зачем ей вообще это мнение нужно, а ведь будь она хоть чуточку внимательнее, всё тут же встало бы на свои места.
Аристотель утверждает, что риторика всегда приносит пользу, поскольку истина и справедливость по своей природе сильнее своих противоположностей. Если же эти противоположности всё-таки одерживают верх, то сей факт, безусловно, достоин порицания. А потому, в отличие от тех же софистов, вектор усилий Аристотеля направлен всё-таки на то, чтобы отстоять или объяснить именно истину, а отнюдь не на то, чтобы просто склонить к своей точки зрения тех, от кого зависит решение по этому поводу. Перефразируя, задача риторики отнюдь не в том, чтобы в конце концов убедить, но в том, чтобы находить верные способы убеждения. И ещё один небезынтересный момент: Ар очень тонко улавливает, что ритором может считаться лишь человек, который соответствует этому искусству как по намерениям, так и по соответствующим результатам, в то время как софистом можно быть исключительно по намерениям, а диалектиком, наоборот, только по способностям.
Дальше, дабы все эти мои рассуждения не сливались для Вас в одно пятно, я позволю себе, как это часто делаю, разбить эту ''лекцию'' на небольшие части, границы между которыми будут означать смену одного предмета рассмотрения другим.
Максим Седунов 23.03.2012 12:13 • Заявить о нарушении
2. Речь как таковая непременно состоит из трёх элементов: из собственно ОРАТОРА, из ПРЕДМЕТА, о котором он вещает, и из СЛУШАТЕЛЯ, который и является своего рода мишенью. В свою очередь, слушатель может быть либо простым НАБЛЮДАТЕЛЕМ, удел которого — лишь похвалы и порицания, как, допустим, читатели этого сайта, либо СУДЬЁЙ. Причём последний может судит как то, что уже случилось (пример — Народный судья в Басманном суде), так и то, что только может случиться (член какого-нибудь законодательного органа).
Сообразно этому существует и три рода риторических речей: ЭПИДЕЙКТИЧЕСКИЕ, чьё дело — хвалить или порицать и чья задача — отделить достойное от постыдного; СУДЕБНЫЕ, чьё дело — обвинять или оправдывать, а задача — справедливость; и СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ, чьё дело склонять или отклонять, задача же здесь — польза. Этим трём родам речей соответствуют и три разных времени: эпидейктические речи сосредоточены в основном на настоящем, судебные — на прошедшем, а совещательные — на будущем. Учитывая, Майкл, что сфера наших с Вами интересов всё-таки тяготеет к первому роду речей, ибо именно там проявляется этическая субъективность индивида, судебные и совещательные стороны риторики, скорее всего, будут рассмотрены мною крайне поверхностно.
3. Чтобы выстроить стройную телеологию, на которую могла бы ориентироваться риторика, Аристотель, как истый язычник, прибегает к категории ''счастье'', которое он возводит в ранг основной цели человеческой деятельности. Разумеется, с самим определением этого вечно ускользающего термина всё обстоит не так просто. Однако Ар определяет счастье как благосостояние, соединённое с добродетелью, добавляя при этом ещё целый ряд внешних и внутренних признаков, которые, в общем-то, вполне можно заменить одним — довольством собственной жизнью. С этих-то позиций им и рассматривается вопрос о пользе и вреде, который, как мы помним, лежит в основе всех совещательных речей. Центральное понятие здесь — БЛАГО. Под благом Ар подразумевает нечто такое, что желательно само по себе, а не ради чего-то другого, — желательно, естественно, по указанию разума. Его (блага) присутствие опять же делает человека самоудовлетворённым, а значит, в какой-то мере и счастливым. Понятием, противоположным благу, является, по Аристотелю, зло. Между прочим, и под добродетелями Ар подразумевает лишь качества, производящие блага и учащие ими пользоваться. Принимая такого рода нехитрую аргументацию, в итоге благом в «Риторике» провозглашаются такие душевные качества, как справедливость, мужество, умеренность, великодушие и прочие, а также красота и здоровье, которые в греческом понимании есть не что иное, но добродетели тела. Ну и, разумеется, под рубрику ''благо'' там попадают богатство, дружба, честь, слава и т. п. Кстати, там же, где им разбирается сущность блага, Ар вскользь показывает различия между дурными и хорошими людьми, где первые — это те, которых порицают друзья и не порицают враги, а вторые — те, которых не порицают даже враги. Всё очень просто и по-язычески универсально!
4. Поскольку, как было сказано, такие категории, как вред и польза, применимы не где-то, но именно в совещательных речах, Аристотель выражает мнение, что для более глубокого понимания риторики этого рода необходимо также разбираться и в существующих формах государственного правления. Честное слово, Майкл, я бы не стал заострять Ваше внимание на этом вопросе (более полно он отражён у Аристотеля в его «Политике»), однако, памятуя о всевозможных умопомрачительных призывах, то и дело всплывающих на главной странице, всё же бегло пробегусь и по такой, на первый взгляд, банальной теме. К слову, почти все профессиональные политики, с которыми я когда-либо разговаривал об этом, совершенно не схватывают сути подобных вещей. Так понимание, например, демократии, каковая в наше время, безусловно, доминирует, в 7 случаях из 10 принимает в их устах настолько причудливые очертания, что Ар, услышав такое, пожалуй, только всплеснул бы руками. Между прочим, главный казус заключён тут в том, что в большинстве описанных случаев демократия выступает скорее в роли некой нравственной оценки, как нечто позитивное вообще, а не в качестве формы правления. А про олигархию так вообще можно рассказывать притчи. Например, наш достопочтенный нацлидер не так давно, буквально перед выборами, без запинки отрапортовал обществу, что олигархи, дескать, в стране перевелись. Само собой, благодаря ему. Одному богу при этом известно, что же в данном контексте нацлидер подразумевал под олигархией. Точно можно здесь констатировать только то, что наш достопочтенный гарант конституции не был знаком с Аристотелем. Итак, формы правления существует четыре: демократия, олигархия, аристократия и монархия. ДЕМОКРАТИЯ — это такая форма, когда должности занимаются по жребию. Выборы наших дней — тоже в какой-то степени жребий, и побеждает здесь тот, кто заручается поддержкой большинства избирателей, где в качестве последних выступает всё дееспособное население. При ОЛИГАРХИИ должности занимаются гражданами исходя из их имущественного положения; при АРИСТОКРАТИИ — сообразно их воспитанию (самый наглядный пример — римский патрициат). Что до МОНАРХИИ, то здесь, понятно, один правит всеми, причём в ситуациях, когда такое правление осуществляется по какой-то вразумительной схеме, монархия принимает вид царствования, а когда единовластие ничем не сдерживается, то это уже не что иное, но чистой воды тирания. Каждой из форм правления соответствует своя цель: цель демократии — это свобода, олигархии — богатство, аристократии — воспитание и законность, монархии — защита. Так как цели разнятся, будет разнится и риторика, используемая для убеждения при той или иной форме правления.
Максим Седунов 19.03.2012 03:00 Заявить о нарушении
6. Ну и несколько слов о судебных речах, поскольку обойти их совсем было бы несправедливо. Между прочим, как раз справедливости этот род речей и добивается. Аристотель утверждает, что несправедливым поступком является такое действие, совершив которое один человек намеренно, вопреки закону причиняет вред другому. Здесь следует отметить, что всё, совершаемое людьми намеренно, совершается ими добровольно, тогда как из совершённого ими добровольно не всё делается намеренно. Под ДОБРОВОЛЬНЫМ здесь следует понимать поступок, совершённый сознательно и без принуждения. В качестве же мотивов, под влиянием которых мы творим несправедливость, Ар называет порок и невоздержанность (которая при более внимательном рассмотрении оказывается тем же пороком). Причём предметом несправедливости, как правило, выступает сам объект порока. Таким образом, сребролюбивый бывает несправедлив из-за денег, сладострастник — из-за телесных наслаждений и т. д. Теперь остаётся ещё выяснить, какое же настроение толкает индивида на несправедливость и по отношению к кому он в конце концов делается несправедлив. Начать здесь следует вот с чего: есть действия, которые люди совершают ПРОИЗВОЛЬНО, есть также и те, что они совершают НЕПРОИЗВОЛЬНО. В свою очередь, сделанное непроизвольно может быть совершено как СЛУЧАЙНО, так и по НЕОБХОДИМОСТИ. Причём необходимые поступки обычно вызываются либо чьим-то принуждением, либо силами природы. Если подытожить, все непроизвольные действия совершаются: или случайно, или по принуждению, или в силу требований природы. С другой стороны, поступки, совершённые произвольно, имеют причину сугубо внутреннюю, и что-то совершается людьми ПО ПРИВЫЧКЕ, а что-то — под влиянием какого-либо СТРЕМЛЕНИЯ. Как Вы понимаете, Майкл, стремление здесь может быть как РАЗУМНЫМ, так и НЕРАЗУМНЫМ. Разумным, стало быть, может считаться стремление к благу, о котором мы уже говорили, а среди неразумных стремлений Аристотель выделяет в первую очередь гнев и страсть. Чтобы все эти приведённые классификации не забылись и не повисли в воздухе, повторю, что в итоге можно выделить семь причин, лежащих в основе тех или иных поступков:
1) случайность;
2) требования сил природы;
3) чьё-то принуждение;
4) привычка;
5) разумное стремление к благу;
6) гнев;
7) страсть.
Понятно, что следствия поступков при этом всегда могут быть двояки, так как эти поступки способны привести как к справедливости, так и к несправедливости. Теперь коротко о тех настроениях, которые сопровождают несправедливые поступки. В каких же случаях люди чувствуют готовность совершать несправедливость? Здесь тоже можно обозначить несколько состояний:
а) когда совершение какого-то поступка они считают вполне позволительным, причём в некоторых ситуациях они считают это позволительным безотносительно, а в некоторых — позволительным именно для себя;
б) когда думают, что их поступок может оказаться не обнаруженным;
в) когда выгода, сулимая этим несправедливым поступком, значительно превосходит возможное наказание.
Говоря о справедливости и несправедливости, Ар утверждает, что определяются они двояким образом, причём двояким образом и относительно самих законов, и относительно тех, в отношении кого эти поступки совершаются. Закон, по Аристотелю, существует частный и общий. Под ЧАСТНЫМ подразумевается закон, установленный каждым народом для себя, под ОБЩИМ — закон естественный. Оскорбление имени Аллаха, например, в одних странах преследуется, а в других нет. Убийство же или грабёж преследуются повсеместно, так как это противоречит природе человека. Что до тех, в отношении кого совершаются несправедливости, то это могут быть как ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦА, так и всё ОБЩЕСТВО в целом. Нанесение телесных повреждений будет несправедливостью к отдельному лицу/лицам, а несоблюдение правил дорожного движения — это уже несправедливость по отношению ко всему обществу в целом. Этим я, пожалуй, и ограничусь, говоря о тонкостях судебных речей. Главное здесь то, что когда кто-то пытается рассуждать о справедливости (и тут мне в очередной раз вспоминается Цицерон, который был глубоким знатоком данного вопроса, как и знатоком в деле риторики), он должен — пускай хотя бы схематично — представлять себе силы, приходящие при этом в движение, а не полагаться на одни лишь эмоции, как это обычно бывает.
7. Теперь немного отмотаем всё назад и вернёмся к тому, с чего мы начали. Как уже было сказано, целью риторики является поиск средств убеждения для ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ, какие бы вопросы не затрагивались в речах. Вынесение же решения, повторюсь, зависит как от доказательности самой речи, так и от доверия к личности оратора. Так вот, существует три причины, влияющих на это доверие, ибо есть столько же вещей, которые дают нам основания верить и без доказательств. Вот эти три вещи: РАЗУМ, ДОБРОДЕТЕЛЬ, БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЕ. К сожалению, или к счастью, но ничего больше на упомянутое доверие не влияет. С разумом и добродетелью, думаю, всё более-менее ясно. Для лучшего же понимания благорасположения, Ар вводит дополнительные понятия и пытается оценить значение собственно страстей, каковые здесь не что иное, но всё то, под влиянием чего люди меняют свои решения. Гнев, милость, сострадание, страх — всё это разновидности страстей, которые, так или иначе, сказываются на благорасположении. Остановимся на этом чуть подробнее.
8. ГНЕВ определяется Аристотелем как проступающее сквозь чувство неудовольствия стремление наказать какого-то конкретного человека за выказанное им пренебрежение, имевшее место тогда, когда пренебрегать бы не следовало. Таким образом, гнев персонифицирован, и всё в нём зиждется на перспективе удовольствия, которое связанно с торжеством справедливости (точнее — квазисправедливости). Для того чтобы построить уравнение такого рода справедливости, упомянутое пренебрежение должно быть уравновешено какой-то противоположной по направленности величиной. Не составит большого труда догадаться, что такой величиной тут будет мщение. При пристальном рассмотрении можно заключить, что пренебрегаем мы лишь тем, что кажется нам ничего не стоящим. Есть три вида пренебрежения: презрение, самодурство и оскорбление. Всё это трио направлено на умаление чужой чести. ПРЕЗИРАЯ, человек старается сделать всё, чтобы показать, насколько безразличен ему объект его презрения. САМОДУРСТВО — это уже не пассивное качество, но активное стремление чинить препоны кому-либо, где задачей будет не собственная выгода, но лишь воспрепятствование чужой воле с целью выказать пренебрежение. А ОСКОРБЛЕНИЕ имеет место тогда, когда возжелавший пренебречь говорит или делает что-то такое, от чего у оскорбённого должно возникнуть чувство стыда, которое, по мнению оскорбляющего, непременно должно конвертироваться у него в наслаждение, связанное с созерцанием квазисправедливости. Надо сказать, что из трёх перечисленных видов пренебрежения в литературных кругах чаще других используется последний. Вероятнее всего, это происходит потому, что сообщение, содержащееся в презрении или в самодурстве, выглядит слишком изощрённо и может быть не так истолковано, — а оскорбление почти не несёт в себе никакой двусмысленности. Короче говоря, алгоритм тут непременно такой: сначала один манкирует, а затем другой на это гневается. Теперь, дабы не зацикливаться на грустном, рассмотрим понятие, противоположное гневу, то есть МИЛОСТЬ, которую Ар определяет как прекращение и успокоение гнева. Опять же не так трудно догадаться, что обычно гнев сменяется на милость, как только гневающемуся становится понятен либо случайный характер выказанного ему пренебрежения, либо раскаяние, последовавшее за ним.
Максим Седунов 19.03.2012 03:03 Заявить о нарушении
Прежде чем перейти к страху, который, как и всё вышесказанное, тоже влияет на риторический эффект, я хочу бегло пробежаться по наблюдениям Аристотеля, приведённым им при сравнении гнева и ненависти. Понятно, что под враждой и ненавистью мы понимаем нечто противоположное тому, что только что говорили о любви и дружбе. Так вот, гнев, как уже было сказано, произрастает из вещей, непосредственно относящихся к нам самим (реакция на выраженное кем-то пренебрежение, через которое просматривается умаление нашего достоинства). Ненависть же вполне может возникнуть и без этого, так как ненавидим мы обычно человека за какие-то его качества. Например, ненавидящие коммунистов или педофилов совсем не обязательно должны при этом предварительно подвергнуться их нападкам. Также гнев непременно индивидуализирован, то есть направлен на конкретного человека. Ненависть же, в свою очередь, может иметь объектом целые социальные группы (те же коммунисты или педофилы). Ар предполагает, что гнев лечится временем, ненависть же — нет. И наконец самое главное: цель гнева — вызвать досаду, цель же ненависти — причинить зло (не важно, за дело или не за дело). К тому же для гневающегося крайне важно, чтобы пренебрегший им почувствовал его гнев. Для ненавидящего это не имеет ни малейшего значения, поскольку ему нужно не изобразить зло, но именно причинить его. Ведь гнев связан с огорчением, а ненавидящий никакого огорчения не испытывает, а значит, первый из них вполне может когда-то смягчиться (милость), а второй — никогда.
10. Теперь немного поговорим о страхе, стыде, благодарности, сострадании и пр. Под СТРАХОМ Ар понимает некое неприятное ощущение, вытекающее из представления о грядущем зле, способном погубить нас или принести нам страдание. Чем ближе вышеназванное зло — тем сильнее страх. К примеру, смерть почитается за величайшее зло, однако по причине своей предполагаемой отдалённости её мало кто боится. Но стоит только наступить ситуации, когда смерть оказывается рядом, этот страх тут же усиливается и приобретает вполне отчётливые очертания. Честно говоря, Майкл, почти обо всём, что рассматривается мною в связи с «Риторикой», мы с Вами могли бы поговорить и сами, причём мой собственный взгляд на эти вещи зачастую очень сильно разнится со взглядом Аристотеля. Тем не менее, не ознакомься я в своё время с подобными греческими воззрениями, вряд ли бы у меня вообще когда-нибудь возникло желание продолжать философствовать в этом направлении. Страх, любовь, ненависть, комическое... — это архиважные вещи для понимания жизни. А значит, потому-то, в первую очередь, я и предложил Вам поговорить об Аристотеле, что вещи, о которых он рассуждает, — и это главное отличие от систематиков — вынуты им из экзистенции, а не вылеплены из глины. Что до страха, то, продолжая, скажу, что ему доступны все, кроме людей, считающих себя в этом смысле неуязвимыми (безрассудно смелые или достаточно, по их мнению, защищённые), и тех, чьё текущее состояние и без того плохо настолько, что никакое тяжёлое будущее никак уже не может их напугать. Соответственно, смелость — это нечто противоположное страху.
СТЫД — это уже страдание или смущение по поводу прошедших, настоящих или будущих зол, которые могут повлечь за собой бесчестье. Соответственно, человек стыдится либо того, что кажется постыдным ему самому, либо того, что кажется постыдным тем, чьё мнение для него не является безразличным. С другой стороны, бесстыдством правильно будет считать к такого рода вещам равнодушие.
Что до благодарности, то её люди испытывают к тем, кто оказывает БЛАГОДЕЯНИЕ, каковое есть бескорыстно оказанная услуга. Как вытекает из наблюдений, в наше время приведённая выше связь (благодеяние — благодарность) распалась, и благодарность давно стала избитым речевым оборотом, сопровождающим простой взаимный обмен услугами. Сегодня принято благодарить абсолютно за всё. И если в случае с благодеянием при помощи благодарности человеком как бы делается попытка за это благодеяние отплатить, то затёртое до дыр ''спасибо'', произнесённое где-нибудь в булочной, играет исключительно формальную роль, ибо за хлеб уже было заплачено деньгами, и ни о каком благодеянии тут речи вестись не может. Как знать, Майкл, быть может, из-за девальвации понятия ''благодарность'' обесценилось и значение самого благодеяния.
Под СОСТРАДАНИЕМ Ар понимает некую печаль, которую мы испытываем при виде бедствий человека, который, по-нашему, этих бедствий никак не заслужил. Однако я тут же поспешу добавить, что настоящее сострадание может быть испытано только через возможность. Иными словами, чтобы сострадать, нужно вытряхнуть себя из собственной шкуры и хоть на мгновение перевоплотиться в того, кому мы собираемся сострадать. В противном же случае все эти деяния с приставкой со- (и соболезнование, и сопереживание, и сочувствие) в одно мгновение становятся лишь формами проявления хорошего тона.
Состраданию в «Риторике» противопоставлено НЕГОДОВАНИЕ, так как оно тоже своего рода печаль, и его мы испытываем уже не при виде чьих-то незаслуженных бедствий, но, наоборот, при виде незаслуженного благоденствия. И сострадание, и негодование — это, как выражается Ар, ''честные страсти'', поскольку они возникают тогда, когда налицо явное несоответствие, несправедливость.
Ну а ЗАВИСТЬ, в свою очередь, от справедливости уже удалена, потому как она тоже является как бы печалью при виде чьего-то благоденствия, однако испытывающий благоденствие человек в данной ситуации уже никакой не недостойный, но самый что ни на есть равный собственно завистнику — равный, имеется в виду, по положению, дарованию, по своей природе, в конце концов, и пр. Между прочим, именно из этого же равенства растут ноги и у чувства СОРЕВНОВАНИЯ, которое, по Аристотелю, представляет из себя огорчение при обнаружении у людей, подобных нам по своей природе, каких-то благ, отсутствующих у нас самих, которые вполне могли бы быть нами приобретены. В отличие от зависти акцент тут ставится вовсе не на то, что у кого-то эти блага есть, но на то, что у нас самих их нет. Стало быть, соревнование преподносится как нечто хорошее, в то время как зависть есть качество, безусловно, низкое.
Спешу заметить, Майкл, что все рассмотренные в этом разделе страсти имеют в качестве общего знаменателя то, что они касаются нашего ближнего и ничем нам самим при этом не угрожают. Ведь появись тут какая-нибудь угроза, всё это мгновенно переросло бы в страх. Сообразно страстям, как Вы понимаете, применяются и способы убеждения, поскольку предпочтения и взгляды на действительность тех или иных людей между собой сильно разнятся.
Максим Седунов 19.03.2012 03:09 Заявить о нарушении
Старости же свойственны черты противоположные. Обманувшись и совершив много ошибок, пожилые люди, не так решительны, во многом злонравны, недоверчивы, они не способны ни на сильную любовь, ни на сильную ненависть. Они малодушны, ведь жизнь как бы ''пообломала'' их. Также с возрастом, как правило, всё сильнее и сильнее утрачивается щедрость и стыдливость, а полезному отдаётся предпочтение перед прекрасным. Ещё стоит отметить, что живут старики больше воспоминанием, чем надеждой, потому что жизнь ДО к тому моменту значительно превосходит жизнь ПОСЛЕ. Совершаемые ими несправедливости, в отличие от юношей, продиктованы уже злобой, а не высокомерием, и сострадание свойственно им не вследствие человеколюбия, но из-за бессилия, которое роднит их с теми, кому они сострадают.
Что до зрелого возраста, простирающегося между юностью и старостью, то здесь я скажу лишь, что по закону жанра он характерен тем, что лишён крайностей, свойственных первым двум категориям, а потому достоинства могут тут проявляться почти беспрепятственно, а недостатки, наоборот, почти нивелируются.
Людям богатым свойственны обычно надменность и высокомерие. Такие люди убеждены, что достойны властвовать, ибо именно наличие богатства, по их мнению, даёт право предполагать, что властвовать они будут весьма эффективно. Благородство по происхождению, корни которого лежат в привилегированном, почётном положении предков, в свою очередь, делает человека крайне честолюбивым. Счастливчикам же, то есть тем, к кому благоволит удача, помимо высокомерия характерно и некоторое безрассудство, а также и боголюбие — черта, которую Ар называет прекраснейшей. И это по-язычески очень понятно, ведь боголюбие является здесь чем-то типа воздаяния божеству за предоставленный им счастливый жребий.
12. Сделав необходимые отступления, снова вернёмся к цели риторики, каковая, напомню, всегда есть нахождение способов убеждения, направленных на решение. Я очень много и о разном здесь говорил, а потому считаю своим долгом сейчас напомнить, что выше уже мы разделили все убеждающие речи на судебные, совещательные и эпидейктические. Можно выразиться и так: задачей убеждающей речи любого рода является уничтожение у тех, к кому эта речь обращена, противоположного мнения. Причём иногда мы пытаемся показать то, что было, иногда — то, что есть, а иногда — то, что будет. Следует сказать, что топ о величине здесь является общим для всех ораторов, поскольку все они склонны прибегать как преувеличению, так и к умалению. Аристотель подчёркивает, что если может существовать одна из противоположностей, то ВОЗМОЖНА и другая. Ведь если есть шанс выиграть, то есть шанс — пускай и чисто гипотетический — проиграть; если возможно дожить до завтрашнего дня, то возможно и не дожить. И так далее. К чему это я? А к тому, что доказывать следует только возможное. Доказательство невозможного — оксюморон, где риторика забирается в неподвластную ей область чудесного и где испытанию подвергается уже сама природа доказательства, которая в этом случае, естественно, трещит по швам. Способов же убеждения, подходящих для всех речей без исключения, повторюсь, два — это пример и энтимема. Пример, напомню, соответствует тому, что в диалектике называется наведением. Но наведение в диалектике — это начало. В риторике же, как советует Аристотель, примеры лучше помещать в конце, то есть после энтимем, поскольку тогда они выглядят как свидетельства, а свидетель-де всегда внушает доверие. Примеры же, помещённые в начало речи, будут по сути наведением, но риторическим речам наведение не свойственно. Итак, Ар выделяет два вида примеров:
1) приведение прежде случившихся фактов;
2) сочинение таковых собственными силами.
В первом случае, будь я современным политиком, задавшимся целью показать в своей речи всю нелепость и безрассудность сложившейся в нашей стране ситуации, я должен был бы воспроизвести какой-нибудь эпизод из прошлого, перекликающийся с современностью. Ну, хотя бы напомнить о приходе к власти Гитлера в 1933-м. Ведь тогда в Германии, если отбросить лирику, наступил как раз такой момент, когда общество настолько увлеклось идеей своего возрождения, процветания и могущества, что вдруг напрочь позабыло за всеми этими хлопотами, что значит быть человеком как таковым. А во втором случае наш современный оппозиционный политик должен уже самостоятельно придумать и воплотить в своих словах такой пример, такую ситуацию, которая бы лучше любого Гитлера осветила зловещие черты текущего положения. Любые притчи, басни и т. п. — это и будут примеры, относящиеся ко второму виду.
13. Теперь следует сказать немного об ИЗРЕЧЕНИИ, которое, по Аристотелю, есть не что иное, но утверждение, которое относится не к отдельным случаям, но имеет общий смысл. По сути, посылки и заключения энтимем, если у них отнять форму силлогизма, — это изречения. Ар наглядно показывает это, приведя следующий стих:
Из мужей нет ни одного, который был бы свободен.
Это — изречение. Оно становится энтимемой лишь тогда, когда к нему добавляется ещё одна, проясняющая, строка:
Один богатства раб, а тот — судьбы.
Как уже было сказано выше, энтимема суть риторический силлогизм, где в отличие от силлогизма диалектического одна из посылок или заключение не выражены в явной форме. Аристотель предостерегает, что не следует составлять энтимему, заимствуя посылки издалека, поскольку это чревато неясностью, которая неизбежна при чрезмерной длине энтимемы. Ар выделяет два вида энтимем: ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ и ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЕ. Показательная энтимема строится на основании признаваемых противником посылок, а обличительная — на основании посылок, им не признаваемых. Выражаясь иначе, в первом случае мы пытаемся доказать что-то оппоненту, используя лишь то, с чем он сам согласен, а во втором — мы уже испытываем саму оптику оппонента. Относительно всех видов вещей существуют соответствующие топы (общие места, общие положения, которые организуют построение доводов). Уверен, Вы понимаете, Майкл, о чём я говорю. Таким образом, чтобы строить энтимемы, например, о хорошем и дурном, о прекрасном и безобразном и проч., лучше прибегать к заранее установленным топам, связанным с той конкретной областью, где мы намереваемся что-то доказывать. И ещё: из всех силлогизмов, как отмечает Ар, наиболее действенны или те, которые предугадываются слушателями с самого начала, или, наоборот, те, которые возникают в речи настолько поздно, что слушатели понимают их суть уже с полуслова.
Максим Седунов 19.03.2012 03:11 Заявить о нарушении
Что касается стиля, то, по сути, вся заключительная, третья, книга «Риторики» посвящена как раз тонкостям, так или иначе с ним связанным. Здесь Аристотель учит и о том, как сделать речь более холодной, и о том, как правильно пользоваться метафорой, и о том, как следует добиваться пространности речи, а как — сжатости. Такого рода рецепты, конечно, несколько примитивны и касаются они в основном древнегреческого языка, так как в другой языковой среде все эти глубокомысленные советы о порядке построения слов и об использовании союзов, боюсь, окажутся неприменимыми. Говоря о свойствах, которыми должен обладать стиль, Ар выводит немаловажный принцип: надлежащими качествами будет обладать такой стиль, который максимально соответствует истинному положению вещей. Иными словами, хвалить нужно с восхищением, сострадать — со смирением, о важных вещах будет уместным говорить торжественно и так далее. С другой стороны, и стиль, и энтимемы непременно покажутся изящными, если в них нам сразу же сообщается нечто такое, о чём мы доселе не знали. Поверхностные же энтимемы (когда в них всё очевидно и когда там нет места для исследования), которые суть банальности, а также энтимемы непонятные производят на кого-то впечатление довольно редко. И наоборот, наилучшими энтимемами будут те, соприкосновение с которыми сопряжено хоть с каким-то познанием. Также Аристотель в третьей книге касается и других особенностей стиля, а именно: когда и в какой степени употреблять редкие слова; чем предисловие в речи схоже с прелюдией в музыке; как правильно опровергать обвинение; какими свойствами должен обладать рассказ в различного вида речах и т. д. Всё это, полагаю, не так интересно, потому что мы с Вами вряд ли способны по достоинству оценить или опровергнуть какие бы то ни было моменты, связанные со стилистикой древнегреческого.
Вот вкратце и всё о содержании «Риторики». Очень надеюсь, Майкл, что я сумел в процессе своего изложения худо-бедно донести сам подход к такого рода вещам, который был характерным для, пожалуй, наиболее универсального ума античности, каковым я считаю Аристотеля. Теперь надо постараться как-нибудь достойно всё это потытожить. Начать хотелось бы с того, что почти все основные трактаты Аристотеля, добиваясь системности в различных дисциплинах, будь то логика, или топика, или диалектика, пусть хоть на миг, но рождают иллюзию, что если все эти системы в один прекрасный день правильно соединить, то в конце концов может быть выстроена и собственно система наличного существования. Однако — и это мне хорошо известно — даже более-менее сносно объяснить или систематизировать наличное существование ещё никому не удавалось. Почему? Да потому, что человек, сам будучи экзистирующим духом, не есть нечто завершённое, но находится в постоянном становлении. А ведь любая система предполагает завершённость. Таким образом, чтобы суметь дать систему наличного существования, индивид должен так изловчиться, чтобы вынести себя за скобки (а наличное существование здесь и будет скобками) и откуда-то из космоса разглядеть то, что происходит с ним же самим. Что бы там кому ни сулили его книжки, но Аристотель лично никогда в такой ловкости замечен не был. Он был эмпириком, но был и диалектиком, диалектиком до мозга костей, и даже этика всегда оказывалась у него насквозь диалектичной. Честно говоря, в язычестве выше и не подняться. Это — его максимум. Но, оставаясь диалектиком, Ар никогда не забывал о той истине, что как только существующий индивид предпринимает попытку систематически разглядеть прошлое, то в ту же минуту он подвергается огромному риску потерять всяческую способность понимать настоящее, то есть себя самого, причём именно как СУЩЕСТВУЮЩЕГО. Другим словами, в случае окончательной и бесповоротной систематизации прошлого, героически осуществлённой каким-нибудь прозорливым господином, вполне может случиться и так, что после самого этого господина не останется вовсе ничего такого, что предполагаемому систематику из грядущего вообще придётся понимать.
Если я в какой-то конкретной ситуации, будь то литературная полемика или политическая агитация, собираюсь озвучить доказательство своего мнения, которое нахожу истинным, то непременно оказываюсь на поле риторики. Чтобы лучше понимать себя, иногда бывает не лишним понять и Аристотеля — человека вроде бы из другого мира, но озабоченного, однако, ровно тем же самым, чем озабочены и мы с Вами, Майкл. А потому ''лекции'' типа этой, думаю, всегда уместны — как для слушателя, так и для ''лектора''. Я с лёгким сердцем по мере своих способностей рассказал Вам сейчас то, что хотел. Уж не обессудьте, коли это легкомысленное (но и серьёзное) повествование получилось не без изъянов. В течение ближайших дней обязательно напишу рецензию на Ваше последнее стихотворение.
С уважением,
Максим Седунов 19.03.2012 03:14 Заявить о нарушении
Майкл Ефимов 19.03.2012 11:13 Заявить о нарушении
Спасибо, Максим. Хочется верить, что Ваш сегодняшний труд может оказаться кому-то полезным.
Из-за того, что набираю на смарте, возможны погрешности, заранее извиняюсь.
С уважением,
Майкл Ефимов 19.03.2012 11:21 Заявить о нарушении