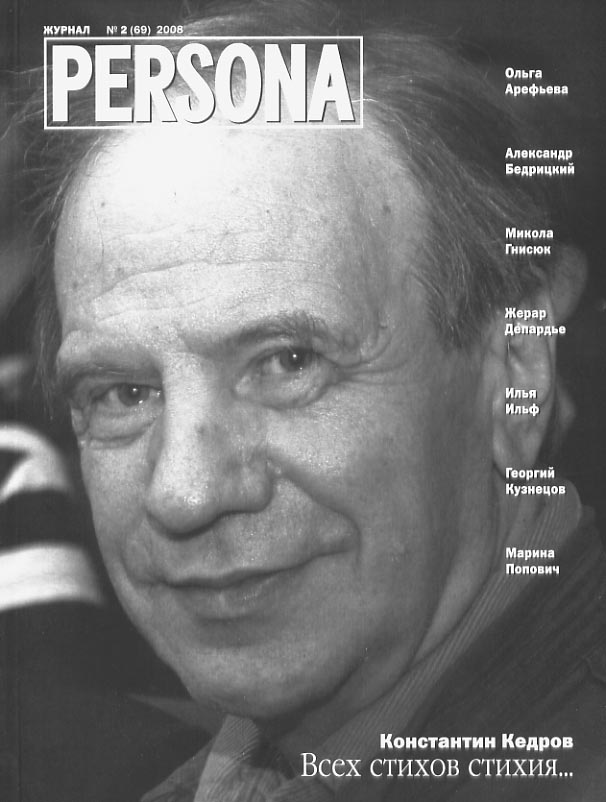К. кедров пушкин-ist. Константин Кедров
Константин Кедров
http://www.liveinternet.ru/users/2502406/post73802764/
http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/307.html
http://video.mail.ru/mail/kedrov42
«Заколыхались жарко груди…» –
Если мы не дозрели до Пушкина и Лермонтова без цензуры, значит мы вообще до них не дозрели. Почему классики активно, охотно и радостно пользовались нецензурной лексикой? Во-первых, они все были великие шалуны и большие эротоманы. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, русский язык без мата теряет душу. Дистиллированная вода, это, конечно, тоже вода. Но как говорил поэт Леонид Мартынов, «ей жизни не хватало – чистой, дистиллированной воде». Тем не менее, читателей до сих пор поят дистиллированным Пушкиным.
Берем академическое издание. Читаем:
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
А всякого словами разобидишь;
В чужой ….. соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.
Но вместо точек у Пушкина слово на букву «п», а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Эпиграмма на Каверина изуродована академиками до полной неузнаваемости. У академиков: «Друзьям он верный друг, красавицам мучитель». А у Пушкина: «Друзьям он верный друг, в борделе он ебака». Вероятно, академики считают, что любить женщину и мучить ее – это понятия тождественные. Возможно, у них этот процесс так и происходит. Но пока что мучают не красавиц, а читателей глупейшими переделками. После такой редактуры впору вспомнить такую эпиграмму:
Не думав милого обидеть,
Взяла Лаиса микроскоп
И говорит: позволь увидеть,
Мой милый, чем меня ты ё...
Многоточие было изобретено, чтобы оттенить невысказанное. А у нас его стали применять, чтобы заткнуть рот писателям.
Мы пили и Венера с нами
Сидела, прея за столом,
Когда ж вновь сядем за столом
С ****ьми, вином и чубуками?
Пушкинских ****ей тоже заменили точками. С точками за столом, конечно, веселее, чем с нехорошими женщинами. Надо было заменить их на «редиски» – «с редисками, вином и чубуками». То-то было бы веселье. Поэзия Пушкина – гимн любви и свободе.
Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель,
Где с громким криком сладострастье
Ведет нас пьяных на постель.
Бордель, разумеется, превращен в многоточие. Так что назовем вещи своими именами: застольный кубок, многоточие ведут нас, пьяных, в худосочие.
В некоторых случаях из-за редактуры вообще невозможно понять, о чем идет речь. Царь рассказывает солдафонский анекдот:
Говорил он с горем
Фрейлинам дворца:
«Вешают за морем
за два яйца.
То есть разумею, –
Вдруг промолвил он, –
Вешают за шею,
Но жесток закон».
У Пушкина все понятно и потому смешно. Но в академическом издании «яйца» вырезаны. Кастрированный текст полностью лишен смысла. Вот уже полтора столетия читатели безуспешно пытаются разгадать известный текст, где вырезаны «муде», а затем и слово «безмудый», а в академическом варианте дважды кастрировали кастрата, вырезав само слово «кастрат».
К кастрату раз пришел скрыпач,
Он был бедняк, а тот богач.
«Смотри, – сказал певец безмудый, –
мои алмазы, изумруды –
я их от скуки разбирал.
А! кстати, брат, – он продолжал, –
когда тебе бывает скучно,
ты что творишь, сказать прошу».
В ответ бедняга равнодушно:
– Я? Я муде себе чешу. (1835 г.)
Кстати, это пишет уже не юный озорник, а полностью состоявшийся великий поэт за два года до смерти. Или мы принимаем Пушкина таким, каков он есть, или мы те самые кастраты, которым нечего чесать. И вместо того, что положено, у нас одно многоточие.
Пушкинисты долго не признавали подлинность поэмы «Тень Баркова», где у главного героя фамилия отнюдь не Онегин, а Ебаков. Самым ужасным для ученых мужей оказалось то, что тут точками не отделаешься. Каждое второе слово ненормативное. Останутся одни точки. Так что дальше текст почти в подлиннике.
Кто всех задорнее е..т?
Чей х.. средь битвы рьяный
П…у кудрявую дерет,
Горя, как столб багряный?
Ох, сдается мне, доживи Пушкин до наших дней, поволокли бы его в суды, а высокоумные эксперты обязательно нашли бы порнографию в его текстах.
Многие меня поносят
И теперь, пожалуй, спросят:
Глупо так зачем шучу?
Что за дело им? Хочу.
Хотел и Лермонтов. Хотел и шутил.
Но скоро страх ее исчез,
Заколыхались жарко груди –
Закрой глаза, творец небес!
Заткните уши, добры люди!
Цитировать Лермонтова труднее, поскольку описание гусарских соитий намного подробнее и натуралистичнее, чем у Пушкина. Тут «Гошпиталь», и «Уланша», и «Петергофский праздник». Читая все это, невольно задаешь себе вопрос – так какой же Лермонтов подлинный? Тот, что выходит на дорогу один, или тот, который резвится с уланшей? Где Пушкин более искренен – в «Евгении Онегине» или в сказке о царе Никите и сорока дочерях вкупе с «Гаврииллиадой»? И то, и другое – подлинник. А, стало быть, выбрасывать неугодные слова, заменяя их точками, то же самое, что соскребать срамные места на фресках Микеланджело. «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает мадонну Рафаэля». А ведь пачкают.
В 1989 году я участвовал в семинаре в университете Лозанны «Секс в русской литературе». Жорж Нива прочел доклад, где поделился интереснейшим наблюдением – в русской литературе нет секса. Вместо него в России либертинаж. «Что значит этот термин?» – спросил я у докладчика. – «Либертинаж – это грубое нарушение всех норм. В русской литературе не хватает слов для описания секса, поэтому пользуются вольно или невольно запретной лексикой, матом». – «А почему так получилось?» – «Потому что у вас не было Возрождения. Нагота так и осталась под запретом».– «А зато у вас нет мата», – с гордостью сказал я. И был вознагражден аплодисментами. Я понимаю, что аплодировали не мне, а Лермонтову и Пушкину.
Изо всех матов в Советском Союзе были дозволены только два: сопромат (сопротивление материалов) и диамат (диалектический материализм). Против сопромата ничего не имею. Диамат не люблю. А мат Баркова, Пушкина, Лермонтова и Грибоедова греет душу. Без него русская литература мертва.
– Прародитель Луки Мудищева –
(И.С.Барков «Полное собрание стихотворений». СПб, Академический проект, 2004)
Все знают строки патриотического гимна: «Гром победы, раздавайся! / Веселися, храбрый росс». Но мало кто осведомлен, что задолго до этого секретарь Ломоносова, переводчик и вечный студент, написал: «Восстань, восстань и напрягайся». Обращена сия ода к мужскому достоинству и соответствующим образом озаглавлена трехбуквенным словом.
Пародируя оду своего учителя Ломоносова, которая начинается словами «царей и царств земных отрада», и гимн «славься сим Екатерина, Богоданная нам мать», Барков пишет другую оду и другой гимн: «О, общая людей отрада, / … веселостей всех мать, / начало жизни и прохлада, / тебя хочу я прославлять».
Нетрудно заметить, что вся поэзия этого пьяницы, гуляки и переводчика древнеримских классиков есть сплошная пародия на официальную, увенчанную лаврами государственную поэзию. Приходится только удивляться широте и великодушию Ломоносова, который до конца своих дней покровительствовал поэту, писавшему на него пародии.
А уж как такие пародии терпела Екатерина II, совсем непонятно. Может, ей даже льстило, что ее так талантливо отождествляют с неназываемой частью тела. «Ее натура хоть вмещает / в одну зардевшись тела часть, / но всех сердцами обладает / и все умы берет во власть».
Скорее всего, Баркова спасала безвестность и анонимность, хотя трудно предположить, что та же Екатерина не была ознакомлена через тайную канцелярию с творениями Баркова. Тем более что враги Ломоносова никогда не гнушались доносами и не упустили бы возможности сообщить двору, какому поэту покровительствует глава Академии Наук. Не исключено, что быстрая отставка Ломоносова связана с тайным творчеством его секретаря. Самого Баркова Екатерина могла счесть слишком ничтожным противником, чтобы метать в него стрелы.
Так или иначе, но Барков дожил до классического возраста многих русских поэтов – 37 лет. После смерти Ломоносова его тотчас лишили всех источников дохода и должности переводчика Академии. Барков покончил с собой в чисто барковском стиле. Сунул голову в камин и угорел от дыма. По слухам, в зад себе поэт воткнул записку: «Жил грешно, умер смешно». Скорее всего, это легенда, восполняющая наше незнание всех обстоятельств ранней смерти Баркова. Но, возможно, что молва не лжет, и все так и было.
Талант его ярок, ослепителен и вполне соразмерен самым известным поэтам 18-го века. Многие считают, что как раз Барков и является самым крупным, незаслуженно замалчиваемым поэтом. Нецензурная лексика и эротика, плавно переходящая в порно, вывела его за рамки истории русской словесности, но уже в 19-ом веке Барков все более входит в моду. Пушкин, подражая ему, пишет поэму «Тень Баркова», разумеется, анонимно. В списках гуляет «Лука Мудищев», чье авторство так и не установлено. То ли переделанный Барков, то ли подлинный Пушкин.
Конечно, Иван Барков был эротоман. Но от каждого из его эротических творений веет веселостью и здоровьем. Однажды Пушкин сказал, что в России тогда наступит свобода, когда издадут без купюр Баркова. И вот он издан полностью, без купюр, да еще и в серии «Библиотека поэта».
«Лежит на мне Ерила / Я тело оголила / и ноги подняла / ярить себя дала…» Далее следует смешная разгадка. Оказывается, Ерила – это ничто иное, как банный веник. Большинство текстов невозможно цитировать без купюр, а с купюрами получается как-то куце. Читая полного, некастрированного Баркова, лишний раз убеждаешься, что русская поэзия без табуированной лексики просто немыслима. Ну, какими словами можно заменить имена барковских героев Долгомуда или ***любы? Иногда запретная лексика искусно упрятана в анаграмме: «Крепи здаровье дарагая / Лихую долю проклинай» (орфография автора).
Он поставил себе цель нарушить все мыслимые и немыслимые запреты и блестяще с этой задачей справился. Разумеется, когда читаешь все это подряд, становится однообразно и утомительно. Иногда Баркову явно изменял вкус. Слог его частенько коряв и трудно понимаем, как почти вся поэзия 18-го столетия. Подлинная свобода появится в «Луке Мудищеве», которая молва упорно приписывает Баркову, хотя до нас это великолепное творение дошло в пушкинской стилистике.
Барков пытался создавать и настоящие оды. Одну императору Петру Федоровичу, другую его убийце – графу Григорию Орлову. Оды эти настолько корявы, что их и процитировать невозможно без специального перевода. А переводить замучишься. Хотя главный сборник Баркова назван им «Девичья игрушка», это сугубо мужское творение. В этом его слабость и его сила. Подлинная поэзия должна включать и женский, и мужской взгляд на вещи. В этом смысле поэзия всегда поверх барьеров. Она общечеловечна. Про Баркова этого не скажешь. Жанр, в котором написаны его тексты, французы обозначают словом «либертинаж». Это некий синтез разнузданности и грубости, шокирующей неподготовленного читателя. Так Сорокину удалось шокировать бабушек возле Большого театра. Не меньше их шокировал бы Иван Барков, если бы кому-то пришло в голову совать эту книгу прохожим. Будем надеяться, что этого не произойдет. Баркова с удовольствием будет читать такой же утонченный филолог, каким был сам автор, или, наоборот, неподготовленный любитель соленостей, воспринимающий все буквально.
В этом, если хотите, универсальность Ивана Баркова, крупнейшего русского поэта, чье имя так и не удалось вычеркнуть из русской словесности вместе с запретной лексикой.
– Пушкин на полигоне русской словесности –
(10 февраля годовщина дуэли, обессмертившей Пушкина)
Одно из бесчисленных достоинств его поэзии – иллюзия вседоступности. Вот «Евгений Онегин» – так просто и так легко написан. Почему бы ни переделать в санскритские мантры. И вот уже Дмитрий Александрович Пригов исполняет роман в стихах горловым пением тибетских лам. И получается! Вот что удивительно. Ни одного слова не изменил, а звучит.
Бесчисленные эротические переделки «Онегина» бытовали даже в пуританскую советскую эпоху. А сейчас ими кишит Интернет. «Прими собранье сих уев / полусмешных, полупечальных, / простонародных, идеальных. / Поставь их в вазу на столе. / Пусть распускаются в тепле». Тепло пушкинской поэзии отогрело даже русскую зиму. Белла Ахмадулина видит в окне переделкинский зимний пейзаж и пишет: «Стало Пушкина больше вокруг».
Он действительно как-то таинственно связался в нашем подсознании с белым снегом. То ли из-за дуэли Ленского, предвосхитившей дуэль самого Пушкина, тоже зимнюю. То ли из-за фамилии Пушкин, намекающей на белые пуховые сугробы. А, может, виноват сон Татьяны, когда за ней гонится русский медведь, опять же по снегу. Многие современные поэты клянутся в верности Пушкину. Возможно, именно поэтому русская поэзия осталась верна правилам стихосложения XIX века в отличие от Европы, давно ушедшей в верлибр, белый и свободный стих.
Блок написал поэму «Возмездие», воспроизводя размер и стилистику «Онегина». Но равного по силе воздействия не получилось. Из кремневого дуэльного пистолета, конечно, и сегодня можно кого-нибудь подстрелить, но в зоне реальных боевых действий такое оружие вряд ли эффективно.
Парадокс в том, что дуэльный пистолет обладает гигантской убойной силой только в руках самого поэта, убитого из такого же пистолета. Скажу проще: все подражания Пушкину и прямое следование его поэзии обречены на вторичность, несовместимую с поэзией. Вот почему футуристам понадобилось сбрасывать гения с парохода современности, как персидскую княжну в лоно волн. Вот почему Пригов, завывающий «Онегина» в стиле буддийских мантр, выглядит более верным последователем классика, чем прилежные имитаторы, бережно хранящие пушкинские традиции.
Тут неумолимо возникает страшная тема: Пушкин и Бродский. Там Петербург, тут Ленинград. Там сплин «короче, русская хандра», и тут сплошная ритмизованная печаль и скука. Там гонение и тут гонение. Правда, Бродскому удалось вырваться из России, а Пушкин так и погиб невыездным. Но в деревню обоих гениев русская власть сослала. Не исключено, что в Бродском мир на самом деле почувствовал и полюбил непереводимого Пушкина. Ну а как перевести «выпьем, бедная старушка»? Поднимем бокал, нищая старая леди? Какое-то спаивание старух, или гулянка молодого поэта с бомжихой, или еще какая-то несуразь.
Александр Введенский, гениальный обэриут, все свои поэмы стилизовал, как эхо творений Пушкина. Незадолго до гибели во время эвакуации на этапе он начертал последние строки: «Ах, Пушкин, Пушкин!»
Казалось бы, эпоха расстрелов навсегда распрощалась с эпохой Пушкина еще в первой половине прошлого века. Ничего подобного. Пушкин вдруг оказался постмодернистом. Все постмодернисты пишут простым четырехстопным пушкинским ямбом. Тем самым, о котором поэт сказал: «четырехстопный ямб мне надоел». Ну ладно архаист, антифутурист и пушкинианец Ходасевич. Ему сам бог велел. Но ведь и футурист Маяковский, возгласивший: «Хореем и ямбом / писать не нам бы», – не выдержал и «ямбом подсюсюкнул». Вообще-то четырехстопный ямб скопировал с немецкого еще Тредиаковский, но Пушкин превратил этот размер в шедевр, сопоставимый с «Троицей» Рублева и фресками Джотто.
Единственное, с чем невозможно согласиться, это с навязчивым утверждением, что Пушкин – наше все. Все – это ничего. Не надо тащить поэта во все эпохи, утверждая, что у него есть ответы на все вопросы. Пушкин не знал Освенцима и ГУЛАГа, не ведал о Хиросиме, и будущее виделось ему светлым и лучезарным. «Ах, Пушкин, Пушкин!», как сказал расстрелянный Введенский.
Да ведь и Пушкина застрелил профессиональный военный. Пусть не на этапе, а на дуэли. Пусть он сам хотел пристрелить обидчика. А все-таки пристрелили его. Сокрушался поэт, что с умом и талантом «угораздило» его родиться в России. Трижды бежать пытался. Один раз через Псков. Донесли. Второй раз через Кавказ. Думал, что уже в Турции, а казак орет: «Ваше благородие! Со вчерашнего дня эта территория уже наша. Третий раз – просился в Китай. Не пустили. Так что вместо утечки мозгов произошло простреливание кишок и предсмертное восклицание: «Боже, какая тоска!» Без этой тоски ни проза, ни поэзия Пушкина не обходится. Есть она и в «Онегине», и в «Станционном смотрителе», и в «Медном всаднике», а потому через века продолжилась в александрийских размерах Иосифа Бродского.
На полигоне российской словесности, где пристрелили Пушкина и Лермонтова и расстреляли Введенского, вскоре полегли миллионы. Страны, убивающие своих поэтов, обречены на гибель.
– Бойтесь пушкинистов –
Главным жизнеописание Пушкина давно уже стала книга Вересаева «Пушкин в жизни». Он первым нашел гениальное решение, как отделить правду от вымысла. Сведения непроверенные пометил одной звездочкой, сведения сомнительные – двумя. А явную фантастику, как коньяк, тремя звездами.
Среди явной фантастики слухи о том, что Николай I умирал с медальоном на шее, где якобы было изображение Натали. В тот же раздел попали слухи о существовании такого медальона во дворце императора.
Народная молва еще при жизни поэта намертво связала его семью с императорской фамилией. Возникли и до сих пор муссируются слухи о тайной связи с Пушкиным самой императрицы. Серьезные исследователи никогда не опровергали и не комментировали такие гипотезы.
В советское время стало модно каждый интимный поцелуй Пушкина рассматривать, как вызов самодержавию. Школьные да и вузовские учебники были полны туманными намеками на политический смысл роковой дуэли. Мол, царь специально подговорил усыновленного голландским послом Дантеса ухлестывать за женой Пушкина, дабы окончательно погубить поэта.
На самом деле император личным вмешательством предотвратил первую дуэль Пушкина с Дантесом и фактически вынудил его жениться на сестре Натали Екатерине, чтобы развеять все подозрения. Дантес на это пошел. И мало того, брак оказался вполне счастливым, настоящим, на всю оставшуюся жизнь.
Никто не знает, удалось ли Дантесу добиться интимной благосклонности Натали. Вересаев пометил звездочками все слухи о тайном свидании на квартире Полетики. Несомненно лишь одно: по свидетельству Жуковского, Карамзина и многих близких к Пушкину людей его жена действительно была влюблена в Дантеса. А Дантес действительно за ней ухаживал.
Еще работая над кандидатской диссертацией о Пушкине, я заметил удивительную симметрию слухов. Дантесу молва приписывала связь с двумя сестрами. А Пушкину молва сосватала другую сестру Натали – Александру. Якобы даже в постели поэта был найден ее золотой крестик. Разумеется, и эти «сведения» Вересаев пометил звездочками.
Поразительно, но о дуэли Пушкина написано на порядок больше, чем о его поэзии. Люди, которые не в состоянии процитировать и двух строк поэта, «знают» во всех подробностях его альковные тайны. Да так, словно рядышком со свечой, пардон, с канделябром стояли. В любом случае принято было клеймить Наталью Николавну за недостойное поведение. Не справилась молва с номенклатурной должностью жены классика, не оправдала народного доверия.
Однажды Борис Пастернак слушал, слушал гневные филиппики в адрес Гончаровой, а потом не выдержал и сказал: «Все правильно! Надо было Пушкину жениться на пушкинисте. Тот уж точно не изменил бы поэту, и не было бы роковой дуэли».
С тех пор в пушкинстике стало дурным тоном лезть в спальню классика. Теперь этим неблагодарным делом занялись дилетанты и любители. Каждый из них, захлебываясь от счастья, на свой лад перечитывал книгу Вересаева и срочно спешил поделиться своими «открытиями» со всеми, кто еще эту книгу не прочитал. Долгие годы «Пушкин в жизни» был неиздаваемым и полузапрещенным. Книгу и сейчас прочли далеко не все. А кто прочел, тот не очень-то обращал внимание на пресловутые звездочки осторожного и добросовестного писателя. Знал бы он, сколько мифов породит его документально-фантастический труд.
Мифологизация Пушкина началась с печально известного некролога: «Закатилось солнце русской поэзии…» Был Людовик Солнце, был Владимир – Красно Солнышко, и вот эстафетная палочка солярного мифологического героя перешла к Александру Сергеевичу.
Как это делалось, блистательно показал Гоголь в «Ревизоре»: с Пушкиным на дружеской ноге и легкость в мыслях необыкновенная. Именно такова методика создания новых и новых мифов вокруг поэта. Абсурдность ситуации лучше всех уловил Хармс в своих анекдотах из жизни Пушкина. Но Хармса расстреляли, а его пушкиниану запретили. Теперь главным мифотворцем стал Сталин. Он лично следил за академическими издания, выходящими к 100-летию со дня смерти поэта. Приказал выкинуть все комментарии и примечания пушкинистов и поистине удивил мир академическим изданием без научного аппарата.
Все «комментарии» были отданы советскому агитпропу. Мой научный руководитель, профессор Валерий Яковлевич Кирпотин по личному приказу Сталина за одну ночь написал книгу «Пушкин и коммунизм», после которой великого поэта можно было смело принимать в партию большевиков. Все дальнейшие монографии и труды о Пушкине советской эпохи лепились по образцу этой книги. Валерий Яковлевич был умен и талантлив. Позднее он пострадал за труды о крайне нежелательном Достоевском. И это несмотря на, что и Достоевский у Кирпотина вполне тянул на кандидаты в члены все той же партии.
После 91-го года из Пушкина стали лепить православного монархиста. О поэте, называвшим себя «афеем» (атеистом), авторе «Гавриилиады», «Тени Баркова» и «Сказки о царе Никите» стали говорить с придыханием, как о монахе-отшельнике. На самом деле в зрелые годы Пушкин отказался от прямого атеизма. Фразу «разумом я атеист, но сердце противится» он переиначил: «Сердцем я атеист, но разум противится». Поэт назвал Новый Завет великой книгой, которую человечество будет читать и перечитывать до конца истории. Но только закоренелый лжец может назвать поэта воцерковленным только потому, что он, уступая просьбам жены, перед смертью причастился.
Умирая, Пушкин просил Жуковского передать Николаю I, что «если бы был жив, был бы весь его». Эти предсмертные слова поэта, конечно, полностью исключают возможность серьезного соперничества из-за Натали между императором и поэтом. Заподозрить религиозного, глубоко верующего Жуковского во лжи было бы глумлением и кощунством над памятью двух поэтов, чья поэзия составляет славу России.
Свой Пушкин есть у Ахматовой, у Цветаевой, у Блока. Но, пожалуй, именно Блок нашел самые верные слова. В своей пушкинской речи он сказал: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин… Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт».
«Бойтесь пушкинистов. Старомозгий плюшкин, / перышко держа, полезет с перержавленным», – писал когда-то Маяковский. Сегодня это предостережение стало еще актуальней.
ТАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА (Пушкин постмодернист)
Каждый год 6 июня мы пытаемся осознать: кто для нас Пушкин?
Однажды я спросил у первого советского пушкиниста В.Я.Кирпотина, автора книги «Наследие Пушкина и коммунизм», написанной за одну ночь по личному заданию Сталина: «Почему Пушкин был масоном?» Валерий Яковлевич, человек умный, ответил уклончиво: «Я подумаю». Но дожив до 90 лет, профессор Кирпотин так и не нашел ответа на этот вопрос.
Ну добро бы по молодости вступил, а потом, в зрелые годы бросил. Так ведь нет. До конца дней с гордостью носил масонский перстень с черепом и бережно отращиваемый длинный масонский ноготь.
Однажды поэт с гордостью сказал: «Я член Кишиневской ложи. Той самой, из-за которой запретили все масонские ложи». Но ведь появлялся же в свете и с масонским ногтем, и с масонским перстнем. И уже не перед либеральным мечтателем и мистиком Александром I, а перед воинственным и жестким Николаем I, повесившим его друзей и собратьев по той самой Кишиневской ложе.
Что это – отчаянная смелость, поэтическое безрассудство? Ответ прост: это Пушкин. Поэт, который не мыслил себя без противостояния любым запретам. Абсолютно невозможно представить себе Пушкина послушным исполнителем чьей-то воли. Будь то воля мастера высшего градуса или воля императора, запрещающего масонство. Николай I, не терпящий никакой оппозиции и особенно нарушение формы, преспокойно сглотнул показное пушкинское масонство. Сегодня и перстень с адамовой головой, и длинный ноготь в специальном футляре воспринимаются как блестящий постмодернистский перформанс.
Как правильно заметил Блок, мы знаем разного Пушкина. Пушкин революционер и республиканец, Пушкин монархист и крепостник… Добавим к этому еще одну ипостась – Пушкин постмодернист. Он обладал удивительной способностью все свои должности и звания превращать в игру. «Саранча летела-летела. Села, все съела. И опять улетела». Это его отчет о деятельности по борьбе с саранчой. Была еще и должность историографа с солидным окладом, увенчавшаяся «Историей пугачевского бунта». Тут даже Марина Цветаева пришла в тупик. Историк Пушкин правдиво показал пугачевские зверства: содрали с помещика кожу и смазали ружья человеческим салом. И вдруг добрейший Пугачев в «Капитанской дочке». Это вполне в духе постмодернизма. Две взаимоисключающих версии одного и того же исторического события. Деконструкция. Пугачев, смазывающий ружья человеческим салом, и он же, по-отечески жалующий Гринева, в равной мере ирреальны. Постмодернисты называют это словом симулякр. Никакого всамделишного Пугачева нет, как нет настоящего Петра. Один под пером Пушкина борется с варварством варварскими методами и кнутом насаждает цивилизацию. Другой полубог на коне в «Полтаве». Оба симулякры.
Если взглянуть таким образом, то понятнее становится отношение поэта к религии. «Сердцем я афей, но разум противится». Симулякр «афей» пишет «Гавриилиаду», а симулякр уверовавший пишет «Пророка». Все на своих местах. Пушкина нельзя втиснуть в идеологию, он в последнюю минуту, по меткому выражению Андрея Синявского, всегда ускользнет и поминай как звали. «Свободы сеятель пустынный» – это самое меткое определение, какое он мог себе дать. Суть его легкого четырехстопного ямба – все та же эстетическая свобода. «И вот уже трещат морозы / и серебрятся меж полей. / Читатель ждет уж рифмы «розы», /На вот, возьми ее скорей». Эти розы на снегу, совмещение несовместимого и неожиданное обновление банальности – типичный постмодернизм
Даже роковая дуэль с Дантесом вписывается в поэтику бесчисленных пушкинских дуэлей, которые были до этого всего лишь перформансами и, слава Богу, заканчивались либо примирением, либо ничем. И вдруг постмодернистская игра переросла в роковую реальность, предсказанную еще в дуэли Онегина с Ленским. И там, и там на снегу сраженный пулей поэт. Конечно, для самого поэта последняя дуэль уже не была игрой. Другое дело, что общество вписало ее в жизнь Пушкина как некое завершающее трагическое действо. О дуэли Пушкина написано не меньше, чем о его творчестве. Она разыгрывается на сотни ладов в бесчисленных исследованиях, где в духе чистого постмодерна проигрывается множество версий. Это и дуэль с Николаем из-за Натали, это и месть обманутого мужа за мнимую или подлинную измену. Это и разновидность самоубийства, когда сугубо штатский поэт стреляется с кадровым военным, идя на верную гибель. Сплошные деконструкции.
Теперь все о той же таинственной, зашифрованной поэтом последней главе романа «Евгений Онегин». Каверин целый роман этому посвятил. А количество «прочтений» давно перевалило за сотню. На самом же деле Пушкин оставил гениальный постмодернистский текст, который можно расшифровывать вечно.
Нет ответа на вопрос, кто написал «Тень Баркова». По всем признакам это Пушкин, сказавший, что свобода в России настанет лишь тогда, когда напечатают «Луку Мудищева» без купюр. Считается, что это поэма Баркова. Но тяжеловесный стиль поэта XVIII века нисколечко не похож на стилистику легкой и озорной поэмы. Скорее всего мы знаем «Луку» в изящной переработке Пушкина.
У всякого, кто внимательно читал дневники, письма и высказывания Пушкина, создается ощущение двух Пушкиных. Один напоказ, другой тоже напоказ. А был ли третий – для самого себя? Это большой вопрос. Один пишет для Анны Керн – напоказ – «я помню чудное мгновенье». Второй, опять же напоказ, для друзей, что сегодня наконец-то я эту б… А третьего, скорее всего, не дано. Две постмодернистские взаимоисключающие версии одного и того же интимного события, превращенного в поэтическое действо с постмодернистским авторским комментарием.
Кого бы ни играл Пушкин – революционера, масона, республиканца, монархиста, Дон Жуана, ревнивого мужа, государственно мудреца, историка и царедворца, атеиста или глубоко верующего – во всех ролях это был он. Разыграв десятки дуэлей, которые кончились примирением, Пушкин, может быть, даже неожиданно для себя стал участником настоящей дуэли, о которой можно сказать словами Гейне: «О боже! Я, раненый насмерть, играл, / гладьятора смерть представляя!»
Называют две даты рождения Пушкина в мае и в июне. Указывают два места, где он мог родиться. Не всякому постмодернисту такое везение. Все деконструкция, все симулякр. Только одно несомненно – родился гений. Хотя постмодернисты гениальность не признают. Но это уж их проблемы.
«Известия», 06 июня 2007 г.
ПОКАЯНИЕ ПУШКИНА
«Известия» № 34, 10 февраля 1992 г.
10 февраля – черная дата в русской истории. Нелепая гибель Пушкина в результате дуэли у Черной речки открыла длинный мартиролог погибших русских поэтов. Дуэль Лермонтова, самоубийство, а. может быть, и убийство Маяковского, гибель в петле Есенина и Марины Цветаевой, гибель в концлагере Осипа Мандельштама, противоестественная ранняя смерть в 37 лет Леонида Губанова, истерзанного брежневскими психушками… Нет, не все в порядке в датском королевстве. Есть над чем задуматься. Что это за страна, где с такой легкостью вот уже 200 убивают лучших поэтов!
Впрочем, смерть Пушкина нельзя считать убийством. Это была честная дуэль. Соперничество из-за любимой женщины. Все, что наплели вокруг этого из политических соображений пушкинисты-пропагандисты, не заслуживает серьезной критики. Двор сделал все возможное, чтобы дуэль не состоялось, но император, запретивший дуэли юридически, не мог отменить законы дворянской чести.
Пушкин погиб на дуэли, защищая свою честь, и это славная смерть, бесславными остаются низменные интриги, подметные письма, подслушивания и подглядывания за личной жизнью поэта тех, кого поэт по достоинству назвал «светской чернью».
Нет никакого сомнения, что, кроме дуэли между Пушкиным и Дантесом, был другой, куда более захватывающий рыцарский поединок между императором и потом, между властью и интеллектуальной элитой страны.
Шеф жандармерии Бенкендорф, конечно же, не Берия, не Андропов, но он целиком и полностью разделял традиционную точку зрения российских властителей на русскую интеллигенцию как на источник смут, опасных для государства. В его глазах Пушкин даже мертвый был прежде всего «руководителем либеральной партии». Этот более чем странный взгляд на поэта, к сожалению, исходил от самого Николая I. Боясь волнений, власти приказали ночью тайно увезти его тело из Петербурга. Вороватые похороны под надзором тайной полиции навсегда останутся величайшим позором России. Вся эта недостойная возня вокруг катафалка породила миф о прямом участии Николая I в интриге вокруг дуэли. Договорились до того, что Дантес лишь выполнял задание императора. Вызывая Пушкина на дуэль.
Неприязнь властей к Пушкину была очевидна. Чего стоит фраза императора, произнесенная после смерти поэта, дескать, Жуковский хочет, чтобы с Пушкиным поступили, как с Карамзиным, но Карамзин был святой, а образ жизни Пушкина нам известен.
Очень странная фраза в устах властителя, который при многих своих достоинствах отнюдь не отличался избыточным целомудрием. Умирая, Николай I сказал: «прощаю всех, даже австрийского императора». Интересно, простил ли он Пушкина?
Не прощенный властями Пушкин перед смертью простил Николаю все. «Передай государю, жаль, что умираю, а то весь был бы его», – сказал он Жуковскому. Это были абсолютно искренние слова. Пушкин простил императору личную цензуру, негласный надзор, совет переделать драму «Борис Годунов» в роман в стиле Вальтера Скотта, запрет на выезд из столицы без специального разрешения, простил бы и тайные ночные похороны. Пушкин был благодарен императору за освобождение из Михайловской ссылки, за личное покровительство и сватовство к Наталье, за крупную денежную сумму фактически прощеного долга, которая хотя и не помогла поэту выпутаться из финансовых затруднений, но все же даровала ему несколько лет для творчества, не обремененного борьбой за существование.
Недоразумение со званием камер-юнкера, поначалу обидевшее поэта, все же следует приписать его поэтической вспыльчивости и ранимости. Титул камер-юнкера был у Жуковского и у Тютчева – это обеспечивало при дворе достаточно почетное место. Другое дело, что Пушкин знал себе цену, император же этой цены не знал.
Извечное и неистребимое недоверие власти к интеллигенции, твердая убежденность, что поэта надо учить и воспитывать, были унаследованы от власти императорской большевистской партократией. Да и довольно высокие чины власти нынешней не гнушаются длинными сентенциями и нравоучениями в адрес, по их мнению, недостаточно патриотичной интеллигенции.
Поэт умер, примирившись с властью, но власти так и не примирились с поэтом.
За недолгие 37 лет Пушкин прошел очень сложный путь жизни. От вульгарного атеизма к глубокой и мудрой вере, от призыва к убийству всей царской семьи до убежденности в необходимости для России конституционной монархии. «Не дай Бог увидеть нам русский бунт, бессмысленный и беспощадный» – эти слова Пушкина я бы золотыми буквами начертал на всех площадях вместо благополучно почившего подстрекательского призыва к мировому пожару «Пролетарии всех стран – соединяйтесь».
Пушкин называл себя космополитом – гражданином мира, не ведая, что в грядущем ХХ веке это слово превратят в ругательство новоиспеченные русопяты, облепившие его имя.
Пушкин был масоном. Он гордился своей принадлежностью к Кишиневской масонской ложе. Масонство помогло Пушкину перейти от детского атеизма к христианству. Он по-новому прочитал Евангелие и понял, что это величайшая книга, которую человечество будет читать и перечитывать на протяжении всей истории. Масонство Пушкина всячески замалчивалось и до октябрьского переворота, и после него. Упоминались лишь масонский ноготь, масонский перстень да масонская тетрадь. Как будто Пушкин – малый ребенок, а масонская ложа – всего лишь карнавал.
На самом деле масонское движение было формой обретения веры после временного разрыва мыслящих людей с церковью. Стремление создать религию чистого разума. Моцарт, Гете, Пушкин были не просто членами масонских лож, но и пламенными проповедниками братства людей. Насколько серьезно это было для Пушкина, видно в его поэтическом завещании, где снова провозглашаются масонские идеалы: «милость к падшим», «пробуждение добрых чувств», «свобода».
Не случайно финал пушкинского стиха так перекликается с финалом 9-й симфонии Бетховена, где снова и снова вспоминаются миллионы наших страждущих братьев.
Я понимаю, что сегодня призыв Пушкина к всемирному братству людей может показаться наивным.
Лев Толстой, а за ним и Вересаев не раз упрекали Пушкина за то, что в личной жизни своей он не следовал идеалам, которые проповедовал своей поэзии, и погиб на дуэли, не отказавшись от последнего выстрела в своего врага.
Возразить здесь очень легко. Поэзия Пушкина самая разная. Там есть и жажда денег, и убийство, и ревность, и свобода, и рабство, и подвиг, и преступление.
Медвежью услугу оказали поэту те, кто пытался сделать из него святого. «Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам…» – какие замечательные слова! Раньше не принято об этом вспоминать покаянные стихи Пушкина. Его религиозность раздражала и революционных демократов, и либералов, что уж говорить о большевиках. Поэтому не в угоду моде, а просто как более приличествующие скорбной дате хочется вспомнить стихи Пушкина последних лет – его завещание, когда каждый стих звучал как молитва: «Веленью Божию, о муза, будь послушна». В то же время поэт провозгласил свою декларацию прав человека. И здесь он опережал не только 19-е, но, пожалуй, и 20-е столетие.
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова,
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Не спешите с проклятием и возмущением на самом деле Пушкин очень даже высоко ценил свободу и доказал это всей своей жизнью. Однако он, пожалуй, первый в России понял, что личность выше общества, народа и государства.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли мне равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни шеи;
Вот счастье! Вот права…
Замечательно, что стихи эти написаны в тот же год, что и хрестоматийный «Памятник». Ведь рядом эти тексты читаются совсем по-другому.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Пришел век еще более жестокий, когда «милость к падшим» стала государственным преступлением, а свобода – «осознанной необходимостью». Из Пушкина стала лепить какое-то государственное страшилище. Вот почему книга Андрея Синявского «прогулки с Пушкиным», написанная в брежневской тюрьме, вызвала такую лютую ярость. На обложке Пушкин с тросточкой, а рядом его собеседник – автор книги в зэковской фуфайке, и это передает веселый и свободный дух книги.
74 года назад Александр Блок незадолго до своей кончины написал речь, посвященную дате гибели Пушкина. То была 84-я годовщина, но по-прежнему не устарели слова Александра Блока: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняют собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин».
Каждому времени созвучны свои поэтические ритмы, и почему-то сегодня из всех стихов Пушкина ближе всего те, где звучит интонация покаяния.
Владыко дней моих! Дух праздности унылой
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не даждь душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпенья и любви,
И целомудрия мне в сердце оживи.
Долгие годы мы учились у Пушкина свободе. Пришло время научиться у него покаянию.
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(«В мире Пушкина». Сборник статей. М., Сов. писатель, 1974)
Роман «Евгений Онегин», как и все выдающиеся произведения мировой литературы, по-своему решает извечные проблемы человеческого бытия. В нем пушкинская эпоха вступала в открытый диалог с эпохами Гомера, Шекспира, Гёте.
Этот диалог почти не расслышали современники Пушкина, и для нас он звучит еще довольно невнятно.
Справедливо пишет Д. Благой: «О сознании поэтом грандиозности этого художественного задания, масштабах его свидетельствуют неоднократно возникавшие в нем в процессе работы над «Онегиным» и в высшей степени характерные аналогии с такими величайшими творениями художественного слова, как «Илиада» Гомера. «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гёте».
Именно с Гомера начнем мы свой разговор о Евгении Онегине как мировом образе.
Еще Кюхельбекер сопоставил роман Пушкина с «Илиадой»:
«Возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков?»… «..Беппо и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина – попытки в этом роде, но (надеюсь, всякий согласится) попытки очень и очень слабые, особенно если сравнить их с «Илиадою» и «Одиссеею», и не потому, что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее), а главное, что они смотрят на европейский мир как сатирики, как судьи, как поэты-описатели: личность их беспрестанно разочаровывает, – мы не можем обжиться с их героями, не можем забыться».
Чувствуя связь между «Евгением Онегиным» и эпопеей Гомера, Кюхельбекер увидел прежде всего различие творческих методов Гомера и Пушкина.
У Пушкина есть «личность», есть «сатира», предметы его изображения «малы и скудны» – следовательно при всей своей значительности и грандиозности «Евгении Онегин» не может считаться современной эпопеей, хотя и является «попыткой в этом роде».
С таким пониманием эпопеи В. Г. Белинский полемизирует уже в первой статье своей работы «Сочинения Александра Пушкина» Белинский не мог видеть приведенное здесь высказывание из дневника Кюхельбекера, но его замечание об эпопее содержит прямой ответ на критику, высказанную Кюхельбекером:
«Греческий эпос «Илиаду»... приняли они (классицисты – К К.) за эпос всеобщий и думали, что до окончания мира все эпические поэмы должны писаться по их образцу, без малейшего отступления, даже начинаться не иначе, как «муза, воспой» или «пою».
Эти строки из статьи Белинского прямо перекликаются с ироническим текстом из «Евгения Онегина»:
«Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив...
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть».
Что же касается утверждения Кюхельбекера о «скудности» предметов изображения в «Евгении Онегине», то и на этот упрек лучше всего ответил Белинский:
«Эпическая поэзия, по понятию псевдоклассиков, должна была «воспевать» какое-нибудь великое событие в жизни человечества или в жизни народа,— и в какую бы эпоху, у какого бы народа ни произошло это событие, оно должно быть наряжено в багряницу или тогу...»
Это высказывание также созвучно ироническому обращению Пушкина к Гомеру в «Евгении Онегине»:
«Твои свирепые герои,
Твои неправильные бои,
Твоя Киприда,твой Зевес
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным,
Пред сонной скукою полей,
Перед Истоминой моей,
Пред нашим воспитаньем модным;
Но Таня (присягну) милей
Елены пакостной твоей.
Никто и спорить тут не станет,
Хоть за Елену Менелай
Сто лет еще не перестанет
Казнить Фригийский бедный край,
Хоть вкруг почтенного Приама
Собранье стариков Пергама,
Ее завидя, вновь решит:
Прав Менелай и прав Парид.
Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас подождать:
Извольте далее читать;
Начала не судите строго;
Сраженье будет...»
Сражение, о котором пишет Пушкин, – будущая дуэль Онегина с Ленским. Ирония же заключается в том, что высокий план героической эпопеи сопоставлен с бытовым, современным, «низким». Все эти стихи входили в пятую главу романа, опубликованную в 1828 году.
Однако пять лет спустя, в первом полном печатном варианте романа, сопоставления дуэли Онегина и Ленского с героическими сражениями в «Илиаде», а также сравнение Татьяны с Еленой были Пушкиным устранены.
Вероятно, непосредственным поводом к пересмотру всего отрывка в целом послужила полемика, развернутая Раичем в 1830 году вокруг отзыва Пушкина на перевод «Илиады», сделанным Гнедичем в конце 1829 года. Пушкин считал это событие выдающимся, должным повлиять на судьбу «всей нашей литературы». Его маленькая рецензия вызвала бурные споры. Суть возражений критики сводилась к тому, что Пушкин непомерно завысил роль, которую «Илиада» может сыграть в современной жизни,
Полемика не прошла бесследно. Она вызвала глубокие раздумья над ролью гомеровского эпоса. Результатом этого и могло оказаться решение поэта устранить места, дающие хотя
бы косвенный повод к иронии над Гомером.
«Остались лишь несколько строк:
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты тридцати веков кумир!»
Образ «суетного пира» XIX столетия на фоне величавого гомеровского эпоса появляется в стихотворении Пушкина, посвященном Гнедичу:
«С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой.
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой».
Стихотворение это примечательно в данном случае еще и тем, что дает возможность увидеть истинное отношение Пушкина к Гомеру, подчас заслоненное ироническими выпадами поэта против классицизма. Мир Гомера своей приподнятостью и цельностью противостоит «безумству суетного пира» XIX века.
В стихотворении «Труд», посвященном окончанию работы над «Евгением Онегиным» в Болдине, 25 сентября 1830 года, Пушкин не случайно обратился к гекзаметру:
«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»
Настроение поэта здесь сходно с тем, которое он приписывает Гнедичу после окончания перевода «Илиады».
Цельность и чистота мировосприятия гомеровских героев в чем-то перекликаются с цельностью и чистотой образа Татьяны Лариной, с которым Пушкину так трудно было расставаться в последних строках романа.
Время от времени в тексте романа прослеживаются тонкие и ненавязчивые сопоставления Татьяны Лариной с античными богами природы.
Эпиграфом к третьей главе романа взяты слова французского поэта Мальфилатра: «Она была девушка, она была влюблена» — из поэмы «Нарцисс на острове Венеры». Если
учесть, что в главе речь идет о двух посещениях Онегиным имения Лариных, становится ясным ироническое сопоставление его в данной ситуации с Нарциссом, а Татьяны с нимфой Эхо, влюбленной в Нарцисса.
Поскольку Пушкин всегда придавал большое значение эпиграфам, а в данном случае эпиграф взят из книги Мальфилатра, разрезанной Пушкиным от начала до конца, мы вправе видеть здесь вполне глубокое соотнесение любовного сюжета «Онегина» с античным сюжетом, заимствованным Мальфилатром у Овидия.
Еще один образ стоит в ряду античных ассоциации, связывающих Татьяну с природой, хотя сопоставление здесь, может быть, не так явно, как в третьей главе. Луна, везде и всюду сопровождающая Татьяну на страницах романа, названа именем Дианы, вечно юной, вечно девственной богини-охотницы. Созвучны также имена Диана — Татьяна.
И все-таки эти сопоставления не привлекли бы нашего внимания, если бы за ними не открывалась гораздо более глубокая, подлинная связь «Евгения Онегина» с античностью, связь, которой проникнуты образы природы в романе.
Календарь природы в «Евгении Онегине» всегда перед глазами читателя. Ритм эпического времени романа соответствует плавному шествию времен года. Это происходит пластически зримо – в пейзажах, насыщенных объективным деиствием.
Образ времен года возник еще в эпопее Гомера, когда в «Илиаде» среди сражений Троянской войны Гомер запечатлел на щите Ахилла вселенную, где плавное шествие светил по замкнутому кругу чередуется с ритмом сельских работ:
«Сделал на нем и широкое поле, и тучную пашню,
Рыхлый, три раза распаханный пар; на нем землепашцы
Гонят яремных волов, и назад, и вперед обращаясь...
Далее выделал поле с высокими нивами...
Там же и стадо представил волов, воздымающих роги...
Два густогривые льва на передних волов нападают,
Тяжко мычащего ловят быка; и ужасно ревет он,
Львами влекомый; и .псы на защиту и юноши мчатся..»
Сюжет времен года пришел в европейскую поэзию в 1726-1730 годах в поэзии Томаса Грея, и рассматривался как подражание «Георгикам» Вергилия. К Вергилию этот сюжет пришел от Гесиода, так же как к Гесиоду он пришел от Гомера, а к Гомеру – от незапамятных мифов.
В 1822 году ДРУГ Пушкина Кюхельбекер поместил в журнале «Благонамеренный» подробный разбор «Херсониады» Семена Боброва, где множество сцен и картин заимствованы из времен года Томпсона. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, напечатал в начале Х1Х века отрывок из «Осени» Томсона в вольном переводе:
«Кто в мире счастия прямого цену знает
И сельской жизни все приятности вкушает
В кругу своих друзей, от шума удален
Тот истинно в душе покоен и блажен...»
У Пушкина образ природы создан эпическими красками. В этом отношении пейзажи Пушкина восстанавливают гомеровский, или, как говорил А.Ф. Кони, «языческий» взгляд на природу.
Главное здесь не в том, что сюжет времен года идет от Гомера. Удивительно то, что в создании образа природы в романе Пушкин, вопреки существующей литературной традиции, оказался ближе к Гомеру. Впервые это заметил И.С.Тургенев: «Вспомните описания Пушкина… Древние греки так же просто взирали на природу… отношения этого по духу своему, действительно древнего поэта к природе так же просты, естественны, как у древних».
Новизна античного сюжета времен года в романе Пушкина заключалась в том, что впервые совместились два разрозненных принципа изображения природы – эпический и лирический.
Лессинг в «Лаокооне» открыл эпическую «живопись действием», которая создается путем мысленного перемещения тел в пространстве.
Гердер дополнил эту классификацию понятием о «живописи чувством», где на первом плане – незримое движение чувств. У Пушкина можно найти оба типа живописи.
«Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив...»
Эти строки можно отнести к эпической живописи действием.
Вот другой пейзаж, в нем преобладает лирическая, гердеровская живопись чувством:
«Унылая пора! очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса... «
Чаще же всего оба вида живописи выступают в единстве:
«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась...»
В этом пейзаже зримые, телесные, «протяженные» образы изобразительности:
«Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк...»
Образы телесно зримы, как в гомеровском пейзаже, преобладает живопись объективным действием («встает заря», «выходит на дорогу волк»). Именно это действие воссоздает поток эпического времени в романе. Сочетание эпической и лирической живописи порождает тот взгляд на природу, который мы называем реалистическим. Понятие природы включает здесь в себя природу человеческих чувств и отношений, не растворяя их в чисто субъективном переживании.
Такой параллелизм в зачатке существовал еще в древности, когда психические процессы уподоблялись движению ветра, огня, воды. Так, в «Илиаде» Гомера душевное состояние героев перед битвой, их бесстрашие полностью выражено в пластических образах природы:
«Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов; но ахейцы
Сами ни силы троян не страшились, ни криков их грозных;
Ждали, недвижные, тучам подобные, кои Кронид
В тихий безветренный день, на высокие горы надвинув,
Черные ставит незыбно, когда и Борей и другие
Дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи
Шумными уст их дыханьями вкруг рассыпают по небу;
Так ожидали данаи троян, неподвижно, бесстрашно».
Как отметил А. Ф. Лосев, внутренний мир человека в «Илиаде» не столько сравнивается с природой, сколько уподобляется ей, порой до полного тождества. В эпосе Гомера
преобладает живопись действием. Вместо движения чувств перед нами перемещение в пространстве пластических телесных образов (тучи, горы).
У Пушкина параллелизм человека и природы, конечно, основан не на буквальном уподоблении человеческих чувств природным процессам, а на равноправном сравнении стихии природы и стихии человеческих чувств. При таком понимании природы граница между ней и человеком всегда подвижна. Природа раскрывается через человека, а человек — через природу.
Весна — это еще и любовь, любовь — это еще и весна:
«Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено».
Это сравнение еще умещается в русле традиционных романтических сопоставлений с природой, когда на первом месте человеческие чувства, а сама природа здесь присутствует как повод для сравнения. Мы не можем видеть, как «зерно весны огнем оживлено», а если и увидим, это уведет нас от конкретного лирического образа.
Для Пушкина такое растворение реальной природы во внутреннем мире человека не характерно. В его сравнениях природа не теряет своей пластичности и зримости. В этом его коренное отличие от романтиков. Здесь возрождение античной телесности мира на новом уровне.
Весна возникает в конце романа не только как время года, но и как любовь Онегина:
«Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима...
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окна, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег...»
Весна не просто условное отражение внутреннего мира, она реально зрима, хотя одновременно она и сравнение. То, что происходит в душе Онегина, подобно тому, что происходит в природе. Гердер не смог бы в этом отрывке найти лирическую живопись чувством. Здесь преобладает живопись действием – играет солнце, тает снег, Онегин несется вдоль Невы в санях. В то же время зримые и осязаемые образы передают незримое движение чувств.
«Евгений Онегин» насыщен пластическими пейзажами. Время в них сгущается, становится пространственным, вещественным, как пейзаж на щите Ахилла.
Щит Ахилла — это античный космос в миниатюре, дающий представление о вечном возвращении и периодической повторяемости событий:
«...И на круге обширном
Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал.
Там представил он землю, представил и небо, и море.
Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,
Все прекрасные звезды, какими венчается небо:
Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,
Арктос, сынами земными еще колесницей зовомыи...»
Круглая форма щита делает зримым вращение Арктоса, Плеяд, Ориона, и они следуют в пространственной двумерности щита один за другим.
В романе «Евгений Онегин» вместо круглого щита существует круговорот времен года, который также включает в себя движение светил по небосводу и ритм обычной человеческой жизни.
Природа с самого начала открытая взору Татьяны, скрыта от глаз Онегина, как скрыта была для него вначале природа собственных чувств.
Образ времен года в конце романа оттеняет разлад Онегина с природой. Не случайно он «бранил Гомера, Феокрита»; его раздвоенному душевному миру была чужда эпическая цельность. Его разлад с обществом перерастает в разлад с природой.
«Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям...
Но в возраст поздний и бесплодный
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след...»
Мысль о внутреннем разладе Онегина с природой возникает уже при чтении первых страниц романа. Правда, пока это лишь внешние контрасты его образа жизни с жизнью природы. С Татьяной читатель встречается в момент ее глубокой задумчивости, на фоне звездного неба. Онегин влетает в повествование «на почтовых». «Помчался», «поспешил», «стремглав», «взлетел» – слова передающие стремительный ритм Онегина, пытающийся обогнать природу:
«Природы глас предупреждая,
Мы только счастию вредим,
И поздно, поздно вслед за ним
Летит горячность молодая...»
Онегин далек от природы. Его мир и его вселенную легче распознать в книгах, которые он читает, чем в пейзажах, которые его окружают и которые надоели ему через три дня.
«Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон...»
Настоящее, глубокое проникновение Татьяны в мир Онегина происходит благодаря знакомству с его любимыми книгами. При этом Татьяна воспринимает образ Чайльд-Гарольда, как наиболее близкий Онегину:
«Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще...»
Если вся вселенная Татьяны раскрыта в природных и космических пейзажах романа, то вселенная Онегина могла раскрыться перед глазами вдумчивого читателя при сопоставлении мира Онегина с миром привлекающих его внимание книжных образов.
Какова же вселенная перед глазами Онегина? Среди его увлечений не было физики и философии — наук об устройстве мира. И все-таки мы знаем, как мог Онегин видеть и представлять вселенную. Это могла быть вселенная Байрона, какой она раскрывается перед читателями в «Чайльд-Гарольде»:
«Он, как халдей, на звезды глядя ночью
И населяя жизнью небосвод,
Тельца, Дракона видеть мог воочью.
Он был бы счастлив за мечтой в полет
И душу устремить.
Я сам в себе не замыкаюсь. Там
Я часть природы, я — ее созданье.
Мне ненавистны улиц шум и гам,
Но моря гул, но льдистых гор блистанье!
В кругу стихий мне тяжко лишь сознанье,
Что я всего лишь плотское звено
Меж тварей, населивших мирозданье,
Хотя душе сливаться суждено
С горами, звездами и тучами в одно».
Чтение Байрона было глубоким: «Хранили многие страницы отметку резкую ногтей». На полях Татьяна встречает «черты его карандаша».
«Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком».
Но за звездами, «как халдей», Онегин не следил. Для него вселенная—это «глупая луна» на «глупом небосклоне». Стало быть, взгляд Чайльд-Гарольда был ему чужд.
Это неприятие Онегиным природы, его молчаливый, иронический вызов мирозданию перекликается с ощущениями Гамлета и Фауста.
«Самая осмотрительная девушка уже достаточно неосторожна, когда открывает свою красоту луне», — говорит Лаэрт в «Гамлете», предостерегая Офелию. Природа в этой трагедии Шекспира грядет как возмездие, с мерным ходом светил. Появление Призрака, говорящего о страшном злодеянии, связано с движением звезд:
«Б е р н а р д о. Прошедшей ночью, когда вон та самая звезда, которая к западу от Полярной, продвинулась по своему пути и освещала часть небес, где она сейчас горит, Марцелл и я, когда колокол бил час...
Входит Призрак».
Движение звездного неба пронизывает и роман «Евгений Онегин». Но для Татьяны в этом движении нет ничего зловещего. Если образ Онегина тяготеет к гамлетовскому началу, то образ Татьяны ближе к образу Джульетты. Джульетта, как и Татьяна, поверяет свои тайны звездному небу, и Ромео в страстном монологе сопоставляет ее с луной:
«Стань у окна, убей луну соседством:
Она и так от зависти больна,
Что ты ее затмила белизною».
Лунная чистота и звездная яркость шекспировских женских образов близки Татьяне Лариной.
Первый портрет Татьяны соткан из звезд и рассвета:
«Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена,
Вставала при свечах она»
Движеньем света написан портрет Татьяны. Движением света насыщен весь роман. В первой главе это мерцание свечей, фонарей; затем искусственный свет все чаще уступает
место свечению звезд, тихому свету луны, сиянию солнца.
«Лучом Дианы» озарена в романе Татьяна Ларина. Движение луны есть одновременно движение сюжетной линии романа. При «вдохновительной луне» пишет она письмо Онегину и заканчивает его лишь, когда «лунного луча сиянье гаснет». Бесконечное звездное небо и бег луны отражаются в зеркале Татьяны в час гадания:
«Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит...»
Неуловимое дрожание руки Татьяны, биение пульса, трепет ее души передаются вселенной, и «в темном зеркале одна дрожит печальная луна». «Дивный хор светил» останавливается в ее маленьком зеркале.
В трагический момент романа луна останавливается над могилой Ленского вместе с Татьяной и Ольгой: «И над могилой при луне, // Обнявшись, плакали оне» (V, 143).
Смерть Ленского сливается с возрождением природы. В лексике Пушкина, как и в лексике всего XIX столетия, смерть часто уподоблялась тьме, а жизнь — свету. Вопреки этому канону, смерть Ленского сравнивается с алмазными переливами спадающей снежной лавины:
«Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая...»
Та же снежная лавина низвергается затем целым потоком жизни: «Гонимы вешними лучами, // С окрестных гор уже снега // Сбежали мутными ручьями...» (V, 140).
И вот продолжается путь Татьяны вместе с луной, вместе со всей природой:
«Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна».
Портрет Татьяны становится неотделим от общей картины мира в романе. Ведь не просто природа, а именно вселенная с величественной сменой дня и ночи, с мерцанием звездного
неба и розовых снегов, с непрерывным шествием светил органически входит в повествование. Глазами Татьяны и автора создается космический фон романа, безгранично раздвигающий пределы повседневного быта.
В непрерывном возгорании света, в постоянном космическом огне кроется глубокий смысл: на этом фоне развертывается извечная драма человеческой любви, ее прозрений и заблуждений.
Перспектива космоса и природы создается в романе еще тем, что расцвечен он не цветом, а светом. Чаще всего это восход и заход солнца, отблеск свечей или камина, свет луны, блеск снега, сияние звездного неба. Световая палитра романа — это серебристое ночное свечение звезд и луны, переходящее в золотой и алый свет камина или солнца. Роман как бы соткан из живого света.
В «Евгении Онегине» природа выступает как положительное начало в человеческой жизни. Образ природы неотделим от образа Татьяны. В «Гамлете» это положительное природное начало сконцентрировано в образе Офелии. Погибая, Офелия как бы возвращается в природу, растворяется в ней:
«Когда она взбиралась на иву, чтобы повесить на свисающие ветви сплетенные ею венки из цветов и трав, завистливый сучок подломился и вместе со своими трофеями из цветов она упала в плачущий ручей. Широко раскинулась ее одежда и некоторое время держала ее на воде, как русалку, и в это время она пела отрывки старых песен, как человек, не сознающий своей беды, или как существо, рожденное в водяной стихии и свыкшееся с ней».
Как Гамлет не хочет поверить Офелии, так Онегин не верит Татьяне. Голос человеческой натуры, говорящий о возможности счастья, кажется им неубедительным, потому что вокруг царит зло.
Объяснение Онегина с Татьяной и Гамлета с Офелией поражают сходством аргументации:
Гамлет:
«Иди в монастырь. Зачем тебе рожать грешников? Я достаточно честен. Однако я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать меня не родила. Я очень горд, мстителен, тщеславен. В моем распоряжении больше преступлений, чем мыслей, чтобы их обдумать, воображения, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить... Мы все отъявленные подлецы. Никому из нас не верь».
Онегин:
«Но я не создан для блаженства.
Ему чужда душа моя...
Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже...
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно ревнив!
Таков я...
Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».
(V, 81, 82)
Исповедь Онегина перекликается с речью Гамлета. Здесь то же неверие в человеческую природу, ссылка на непостоянство людей как на вечный закон природы, сомнение в природных возможностях человека.
Офелия не возражает на слова Гамлета, Татьяна не отвечает Онегину. Возражением здесь являются не слова: любовь Офелии и любовь Татьяны — лучшее опровержение аргументов Гамлета и Онегина.
В книге «Поэзия и правда» Гёте писал: «Отвращение к жизни имеет свои моральные и физические причины... Все приятное в жизни основывается на правильном чередовании явлений внешнего мира. Смена дня и ночи, времен года, цветение и созревание плодов, словом, все, что через определенные промежутки времени возникает перед нами, дабы мы Могли и должны были этим наслаждаться, — вот подлинная пружина земной жизни. Чем открытое наши сердца для этого наслаждения, тем счастливее мы себя чувствуем. Но если нескончаемая череда явлений проходит перед нами, мы же от нее открещиваемся и остаемся глухи к сладостным зазываниям, тогда приходит зло, тягчайшая болезнь вступает в свои права, и жизнь представляется непосильным бременем».
Таким непосильным бременем представляется жизнь Онегину. Причем Гёте подчеркивал, что эти «симптомы отвращения к жизни, которые нередко приводят к самоубийству», удел «чаще всего людей мыслящих и самоуглубленных».
В подражании «Фаусту», созданном в период напряженной работы над «Онегиным», в 1825 году, Пушкин сосредоточил свое понимание фаустовской драмы. Его Фауст, говоря о своей любви, вспоминает «шум древесный» и «сладкозвонные струи». Для него любовь к Маргарите так же естественна, как природа. Мефистофель пытается заглушить в Фаусте голос природы:
«Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..»
Фактически Мефистофель говорит Фаусту о любви к Маргарите примерно то же, что сказал Онегин Татьяне при первом объяснении:
«Я сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас...»
Однако Пушкин разрушает фаустовскую схему Онегина. Голос природы оказался мудрее голоса Мефистофеля. И пушкинское «да» миру, как и «да» Онегина, не нуждается в метафизических оправданиях.
Есть много общего между Гамлетом, Фаустом и Онегиным. Они разочаровываются в книжной мудрости, в любви, в человеческом обществе. Вначале и любовь не может пробудить их к жизни, ибо они не верят: Гамлет — Офелии, Фауст — Маргарите, Онегин — Татьяне. Рано или поздно наступает прозрение, но до этого происходит бессмысленное убийство — Лаэрта, Валентина, Ленского.
Это общее составляет часть более глубокой, гамлетовской проблемы бытия мира и человека, пронизывающей все три произведения.
Еще Гегель выдвинул положение об извечности гамлетовской ситуации в человеческом бытии. Гамлет, утверждает Гегель носит свою трагедию в себе, и в этом смысле она фатальна Это не значит, что трагедия субъективна, — наоборот, она предопределена гамлетизмом мира и человеческого бытия.
Вот как определил эту ситуацию Белинский:
«Человек уже не удовлетворяется естественным сознанием и простым чувством: он хочет знать; а так как до удовлетворительного знания ему должно перейти через тысячи заблуждений нужно бороться с самим собою, то он и падает».
Очень важно при этом заключение Белинского о том, что это «непреложный закон как для человека, так и для человечества».
«Вывихнутое» время Гамлета и время Онегина, несмотря на разницу эпох, имеют много общего.
«Какой-нибудь молодой человек, покинув родную «старинную» патриархальную среду, отправлялся учиться в университет. Здесь знакомился он с вольнодумными кружками, дружил с учеными студентами, как Гамлет с Горацио, читал такие, например, книги, как «Утопия» Томаса Мора. Вернувшись в свой родной дом, он приходил в ужас от всего окружающего. Мир действительно начинал ему казаться «заросшим плевелами садом». Сам он переживал глубокие страдания: старые верования его были разрушены, а как приступить к претворению в жизнь тех идеалов, которые смутно носились перед ним, он не знал и не мог знать».
Нетрудно почувствовать здесь определенное сходство с возвращением Ленского. Гамлет и его друг Горацио возвратились из Виттенберга и потрясены контрастом между идеалами Возрождения, которые они усвоили, и действительностью. Ленский тоже возвратился из Германии, только из Геттингенского университета. Виттенбергский университет был основан в 1502 году. Между ним и Геттингенским пропасть времени глубиной в три столетия, а проблема осталась та же: как примирить идеалы с жизнью?
Мотив «чужестранца в своем отечестве» позволяет показать несовершенство мира как бы со стороны. Не случайна в устах Ленского неожиданная цитата из Гамлета:
Гамлет:
Бедняга Йорик! – я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине…»
Ленский:
«Poor Jorick! – молвил он уныло. –
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его очаковской медалью!»
(V, 53)
О том, что Пушкин совершенно сознательно направляет мысль читателя к иронии над загробной метафизикой, говорит его примечание к словам Ленского:
«Бедный Йорик!» – восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна)» (V, 194).
Ссылаясь на Стерна, поэт настраивает читателя на иронический лад – ведь у Стерна эпизод с Йориком обыгрывается именно в таком плане: герой Стерна ведет свой род по прямой линии от знаменитого шута:
«...Род этот датского происхождения и переселился в Англию еще в царствование датского короля Горвендилла, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность. Что это была за должность, грамота ничего не говорит; она только прибавляет, что уже лет двести, как ее за полной ненадобностью упразднили… Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, – и что Йорик из Гамлета... несомненно является этим самым Йориком».
Именно после слов Ленского с цитатой из Шекспира тема жизни и смерти впервые возникает в серьезном контексте:
«Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им во след идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!»
В Шекспире Пушкин видит прежде всего реалиста без метафизических облачений. Гамлетом может оказаться весьма прозаический современник, вздыхающий над параличом тульского заседателя. Пушкин читал Шекспира с улыбкой, как об этом свидетельствует поэма «Граф Нулин». Эта улыбка чувствуется и в «Евгении Онегине».
Но ирония не заслоняла для Пушкина глубоких философских проблем, стоящих перед героями Шекспира. Яркий пример этому тот же «Граф Нулин». С одной стороны, писатель заземляет сюжет, превращая Тарквиния Гордого в графа, а Лукрецию — в Наталью Павловну. Но, с другой стороны, как об этом писал Гуковский, решается сложнейший философский вопрос о детерминизме и случайности в истории и в судьбах людей. Этот же вопрос стоит перед Гамлетом.
Гамлет слишком ясно видит железную закономерность торжества зла в Эльсиноре, чувствует, что сам он подчинен этой закономерности, как бездушный механизм. Недаром пишет он Офелии: «Твой всегда, дражайшая госпожа, пока этот механизм принадлежит ему, Гамлет».
В «Евгении Онегине» события развиваются сначала детерминированно. Вторжение случайности связано, как и в «Гамлете», с убийством друга. Гамлет не хочет убивать Лаэрта, но его шпага отравлена королем, воплощающим в себе правила и законы Эльсинора. Онегин не хочет убивать Ленского, но законы света неумолимо вторгаются в его личную жизнь. Эти законы имеют вид случайности, но в них железная закономерность. Бездушная механика пистолета — это как бы модель всей бездушной общественной машины, которая рукой Онегина убивает Ленского:
«Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще».
Подробное описание орудия убийства сопоставимо с развернутой метафорой кровавого колеса монархии в «Гамлете», вращающегося по своим неумолимым законам:
«Кончина короля не происходит одиноко, но, как водоворот, увлекает все, что находится вокруг. Это огромное колесо, установленное на вершине высочайшей горы, к гигантским спицам которого подогнан и прикреплен десяток тысяч более мелких вещей. И когда это колесо падает, все то мелкое, что связано с ним и ему подчинено, следует за ним в его шумном крушении».
Виттенбергский студент Гамлет и геттингенский студент енский прикованы не только к своему времени. Каждый век изобретает свою метафизику. Известно скептическое отношение Пушкина к любомудрам, рассуждавшим на тему, «веревка вещь какая». Ленский спорит с Онегиным о «роковых» тайнах гроба, рассуждает об особом предопределении человека:
«Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный...
Нет нужды; прав судьбы закон...»
О загробном мире и предопределении много думает Гамлет. Эта сторона гамлетовского характера настолько же чужда Онегину, насколько она близка Ленскому.
Если рассматривать образы «Онегина» в сопоставлении с Гамлетом, то образ шекспировского героя предстанет как бы в расщепленном виде: то, что для Пушкина в Гамлете неприемлемо, сосредоточилось отчасти в Ленском. Может быть, именно поэтому в его уста вложены реминисценции из «Гамлета» с ироническим примечанием. Но в гамлетовском характере есть и то, что близко Пушкину: непримиримость к несовершенству мира, проблема совершенного человека в несовершенном мире, историческая обреченность открытого действия.
XIX век устами Гёте вынес Гамлету приговор, осуждая его за нерешительность. Насколько такая точка зрения была общепринята, свидетельствует статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот».
Гамлет, писал Тургенев, много знает, но не может перейти к действию именно потому, что знает обреченность действия в рамках своей жизни.
Дон Кихот многого не знает, но готов тотчас же бороться где угодно и с кем угодно, даже с мельницами, за осуществление пусть несуществующего идеала. Все герои мировой литературы, говорит Тургенев, или Гамлеты, или Дон Кихоты.
Многое из сказанного Тургеневым применимо к характерам героев «Евгения Онегина». Дон Кихот верит в осуществление своего идеала сейчас, немедленно, как Татьяна, как Ленский. Онегин, подобно Гамлету, слишком трезво видит действительность и поэтому больше задумывается о мировых вопросах и меньше действует.
Проблема Гамлета и Дон Кихота это не только проблема психологических типов мировой литературы. Гамлетовский и донкихотовский типы на самом деле не так уж противоположны. Они не только тяготеют друг к другу, но подчас совмещаются в одном лице.
Онегин тянется к Ленскому потому, что в натуре его самого очень много скрытого донкихотства. Ирония же заключается в том что «Гамлет-Онегин» убивает «Гамлета-Ленского». Гамлет, устремляющий взор в потусторонний мир, ищущий надмирной справедливости, погибает от руки Гамлета XIX столетия, Гамлета, свободного от метафизики, отрезвленного прошедшими веками.
Разумеется, это сопоставление не надо понимать буквально. Оно правомерно лишь при ретроспективном взгляде на образ Онегина в сопоставлении с образами Шекспира.
Гамлет и Дон Кихот не просто разные по складу характеры, они живут в разных вселенных, вернее — она им по-разному представляется.
Для Гамлета рамки человеческой жизни практически бесконечны. Его пугают сны загробного мира.
Появление Призрака для Гамлета факт документальный. Последующая проверка, которую осуществляет Гамлет («мышеловка»), нужна лишь для того, чтобы удостовериться, что Призрак не обманул. Само же существование загробного мира сомнению не подвергается. Об этом же свидетельствует и решение Гамлета не убивать короля во время молитвы, чтобы душа убийцы не предстала в потустороннем мире очищенной от грехов.
Осознание своего страха перед неведомой загробной жизнью не позволяет Гамлету умереть, забыться, и это же осознание толкает его к действительной жизни.
В совершенно противоположной ситуации находится Онегин. Для него не существует страха загробной жизни, но, как и Гамлет, он тяготится жизнью земной и рассуждает о возможности самоубийства. Сравним эти два монолога:
Гамлет:
«Умереть – уснуть – не более того. И подумать только, что этим сном закончится боль сердца и тысяча жизненных ударов, являющихся уделом плоти, – ведь это конец, которого можно от всей души пожелать».
Онегин:
«Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма?..»
Казалось бы, что общего между трагически заостренным гамлетовским монологом и полусатирическим размышлением Онегина? Однако что общего между поэмой Шекспира «Лукреция» и «Графом Нулиным» Пушкина? Такая же несопоставимость трагического и сатирического. Но Пушкин указывает на эту связь:
«Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира я подумал: что если бы Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинню? быть может, это охладило бы его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась. Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те... Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на своих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения» (VII, 226).
Не явное, а скрытое пародирование гамлетовского монолога возможно и в «Евгении Онегине». То, что для Гамлета серьезная мировая проблема, для Онегина предмет самоиронии, и решения ими этих проблем различны. Гамлет чисто рационально решает «быть» и идет на гибель. Онегин ироническим разумом выбирает небытие, но возрождается к жизни вместе с любовью к Татьяне.
Для Гамлета бытие должно иметь метафизическое разумное оправдание. Для Пушкина бытие выше и шире разума. «Быть» произносит не холодный рассудок Онегина, а сама жизнь, восстающая в нем.
Полоний спрашивает Гамлета:
«Что вы читаете, милорд?
Г а м л е т. Слова, слова, слова».
Для Онегина тоже слишком ясна пустота слов и понятий, прикрывающих пустоту жизни:
«...думал, что добро, законы,
любовь к отечеству, права —
Одни условные слова».
Эти строки сохранились в черновиках и, вероятно, не вошли в издание по цензурным соображениям. Нельзя было открыто в печати подвергать осмеянию слова «добро, законы,
любовь к отечеству» в эпоху господства ложного, казенного, напыщенного патриотизма, который кощунственно брал напрокат терминологию казненных декабристов, превращая в пустые слова глубокие гуманистические понятия.
Гамлет говорит о книгах: «Слова, слова, слова». Фауст решительно заявляет: «В начале было дело»,— споря с евангельской мудростью о первенстве слова. Эта поистине антигамлетовская и даже антидекартовская постановка проблемы была новым словом XIX столетия. Здесь истоки фатализма прогресса. Фаусту чуждо гамлетовское и онегинское «быть или не быть». Онегин и Гамлет действуют скорее по декартовской формуле: «Мыслю, следовательно, существую». Гамлет и Онегин не могут действовать, не задумываясь о последствиях. Они и любовное чувство предварительно изучают. Тем более они не могут перейти сразу к историческому действию. Они взвешивают последствия и часто предвидят зло, которое может породить их действие. Фауст же не задумываясь сносит жилище Филемона и Бавкиды, ставя действие впереди мысли. Для него история оправдывает все. Он живет в веках забывая, что жизнь других людей ограничена.
Пушкин писал свой роман семь с половиной лет Гёте начал «Фауста» еще до 1775 года, задолго до рождения Пушкина, и закончил его в 1831 году – в год окончания романа «Евгении Онегин». Однако оба произведения вобрали в себя не только свою эпоху, но в какой-то мере и всю историю человечества.
Но принципы историзма Пушкина и Гёте прямо противоположны. Чтобы сделать своего героя человеком, вобравшим в себя все исторические эпохи, Гете продляет жизнь Фауста на много столетий, правда, не в будущее, а в прошлое.
У Пушкина фаустовские проблемы человеческого бытия решаются в рамках одной реальной жизни.
Арена действия «Фауста» – вечность, и только вечность. Правда, вечность земная историческая, но ведь Фауст получил практическое бессмертие. История для него – его жизнь.
В подражании «Фаусту» есть у Пушкина мысль, очень заостренная. В отличие от Гете, Пушкин не склонен к фетишизации прогресса, он ясно видит беды, которые несет история человеку. Корабль, прибывший из Америки, символ грядущего буржуазного развития, пушкинский Фауст приказывает утопить.
Как чуждо было Онегину гамлетовское отношение к потустороннему миру, так чуждо было ему фаустовское обожествление истории. В отличие от Гете, Пушкин не может принести человека в жертву истории.
Фауст поставлен в центр мироздания, ему прислуживают и люди, и духи, и даже сама история, в которой он полновластный хозяин.
«Он становится центром окружающего мира; он сам (сам не сознавая своего добродушного эгоизма) не предается ничему; он все заставляет себе предаваться; он живет он живет сердцем, но одиноким, своим, не чужим сердцем, даже в любви, о которой он так много мечтает… Он готов толковать об обществе, как об общественных вопросах, о науке; но общество, так же, как и наука, существует для него — не он для них. Такая эпоха теории, не условленных действительностью, а потому и не желающих применения, мечтательных и неопределенных порывов, избытка сил которые собираются низвергнуть горы, а пока не хотят или не могут пошевельнуть соломинку, — такая эпоха необходимо повторяется в развитии каждого; но только тот из нас действительно заслуживает название человека, кто сумеет выйти из этого волшебного круга и пойти далее, вперед, к своей цели».
Эти слова Тургенева с удивительной ясностью прочерчивают жизненный путь Онегина, вскрывают философский смысл его исканий, его неразрывную связь с эпохой. Однако сказаны эти слова не об Онегине, а о Фаусте.
В Онегине довольно ярко выражено мефистофельское, саркастическое начало. Он смеется над несовершенством мира вообще, а прежде всего над несовершенством людей. Однако сарказм не поглощает душу Онегина, как поглотил он душу Мефистофеля. В Онегине есть черты и Фауста, и Мефистофеля. Саркастическое начало прекрасно уживается в его характере с эпикуреизмом сельской жизни. Он влюбляется пылко и страстно, как Фауст, хотя и видит, как Мефистофель, трагическую бесперспективность чувства:
«Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...»
При всей несхожести мотивов, жанров, исторических и национальных условий «Фауст» Гёте и «Евгений Онегин» Пушкина соприкасаются в самом главном: герои этих произведений должны преодолеть индивидуализм как форму протеста против несовершенства мира.
Однако Гёте решал эту проблему, погружая взор Фауста в национальную народную мифологию.
В связи с этим интересно проследить соотношение реальности и мифа в «Фаусте» и в «Евгении Онегине». Гёте наполняет миф новым жизненным содержанием, делает его национальным и даже злободневным. Таково, например, соприкосновение Фауста с отечественной мифологией в сцене на Брокене:
«И все ближе, ближе вой,
Улюлюканье и пенье
Страшного столпотворенья,
Мчащегося в отдаленье
На свой шабаш годовой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Старуха Баубо мчит к верхушке
Верхом на супоросой хрюшке...
Вперед за бабкою, вперед!
Всей кавалькадой верховых,
Чертовок, ведьм и лешачих!»
Брокенский шабаш – карикатура на современность. Вместе с тем в нем по-новому воссоздана создана национальная мифология. Гете в воссоздании современного эпоса идет по шеллинговскому пути превращения греческих «богов природы» в «богов истории».
Путь Пушкина иной. Он вообще отказывается от богов, соприкасаясь лишь с самой историей и природой. Он прибегает к мифологии лишь для разрушения привычного мифа или для проникновения в глубины национального сознания.
В «Евгении Онегине» есть свой «шабаш». Он тоже построен на материале сказочных преданий. Это сон Татьяны.
«Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ».
Татьяна пробуждается в тот же страшный сон, только еще страшнее, потому что он продолжается наяву. Описание бала Лариных порой кажется повторением сна:
Сон:
Чудовища
Другой с петушьей головой
Карла с хвостиком
Череп на гусиной шее в красном колпаке
Бал:
Скотинины…
Уездный франтик Петушков…
С семьей Памфила Харликова…
…мосье Трике в очках и рыжем парике
Жуковский писал:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».
Пушкин показал это пробужденье. Оно оказалось не менее страшным, чем сон. Миф о примирении в вечности оказался разрушенным.
Между тем такой миф играет огромную роль в «Фаусте», где эпилог на небесах должен разрешить все противоречия мира. У Пушкина все решается на земле.
В «Евгении Онегине» ясно намечены два композиционных центра. Это письмо Татьяны и ответ Онегина и затем письмо Онегина и ответ Татьяны. Весь роман пронизан этим своеобразным диалогом. Однако дважды этот диалог превращается в монолог одного героя. При первом объяснении говорит Онегин, а Татьяна молчит. При втором — говорит Татьяна и молчит Онегин.
Невольно возникает вопрос: слышат ли друг друга герои, произнося свои монологи? Отвечают ли они на полученные любовные признания или эти признания в известной мере лишь повод для страстного монолога. Почему Татьяна ни единым словом не в состоянии возразить Онегину? Почему Онегин ни единым словом не отвечает Татьяне на ее обвинения? Если объяснить такое молчание только эмоциональным шоком героев, то придется приписать чисто бытовой случайности поистине бездонно глубокие причины разрыва между Онегиным и Татьяной. Татьяна достаточно решительна, чтобы первой обратиться к Онегину с объяснением в любви. И Онегин не настолько робок, чтобы не найти второго случая для ответа на обвинения, услышанные им из любимых уст. Почему же в решительнейший момент своей жизни они не находят слов в защиту своего счастья?
Диалоги героев звучат как монологи, потому что нельзя ответить словами на самое сокровенное, высказанное в порыве вдохновения и наивысшего прозрения жизни. Если не пони мать этого прозрения героев в их монологах, все сведется к моралистической схеме, осуждающей или Онегина за непонимание Татьяны, или Татьяну за непонимание Онегина
Татьяна молчит потому, что Онегин рассказал ей о своей глубокой, бескомпромиссной жажде совершенства в любви, которая не позволяет ему откликнуться на признание Татьяны, ибо он не находит в себе этого совершенства
Молчит и Онегин при последней встрече с Татьяной: ведь она упрекает его в отступлении от этого идеала и одновременно прощает его за это. В ее отказе – ее верность Онегину
«...Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной...»
Кроме диалогических монологов Татьяны и Онегина в романе существует еще один подобный диалог автора с читателем. Автор обращается к читателю с вопросом:
«Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель...
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда».
Оба эти обращения характерны своей формой вопроса-утверждения. Обращения автора к читателю по сути своей монологи, однако построены они как диалог с читателем. Создается впечатление, что читатель участвует в диалоге, но ведь на самом деле читатель молчит. Однако его молчание кА молчание Онегина и Татьяны в ответ на страстные монологи, входит в повествование как ответ на вопросы автора. Участие в разговоре может быть и молчанием. Молчание входит в сюжет и композицию романа как семантическая единица. Благодаря этому молчанию мы всегда за стихией бурлящей, искрящейся речи в романе чувствуем еще более безграничную стихию невысказанного.
Здесь бесконечность участвует в разговоре не в метафизическом смысле гамлетовского: «Дальнейшее – молчание». Молчание героев Пушкина – не перед лицом смерти, а перед лицом жизни, о которой поведать еще труднее. Таково же молчание самой фабулы романа о дальнейшей судьбе Онегина и Татьяны.
В романе «Евгений Онегин» Пушкин воплотил в художественных образах новое, свое понимание смысла человеческой жизни.
Новым было время и место действия не только в историческом и географическом смысле. Действие романа «Евгении Онегин» разворачивается как бы в новом времени и пространстве.
Это время и пространство бесконечно, как природа и как история, но оно ограничено по отношению к человеку, поскольку конечны и ограничены пределы человеческой жизни.
Впервые глубокие гамлетовские проблемы человеческого бытия решались не в бесконечном пространстве истории, как в «Фаусте», а в пределах одного кульминационного момента человеческой жизни.
Пространственная природная бесконечность гомеровского эпоса получила новое измерение в бесконечности «чудного мгновения» романа «Евгений Онегин».
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В РОМАНЕ ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
«Писатель и жизнь». М., Изд-во Московского университета, 1978
В стихотворении, посвященном окончанию романа «Евгений Онегин», Пушкин писал:
«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»
Строки гекзаметра невольно обращают наш взор к Гомеру, и действительно сам текст романа свидетельствует, что Пушкин много размышлял об «Илиаде» Гомера, работая над своим романом.
Сходя с гомеровского Олимпа «под тень долины малой», мы невольно погружаемся в мир Татьяны Лариной, ощущаем ее неразрывную связь с природой, и этот мир оказывается насыщенным античными образами, придающими происходящему особый подтекст и смысл. Этот мир оказывается по-особому близок эпическому миру Гомера, где человек выступает в неразрывном единстве с природой.
Пушкин писал П. Вяземскому: «Роман мой расчислен по календарю» (12, 235). Календарь природы всегда перед глазами читателя. Ритм эпического времени романа соответствует плавному шествию времен года. Смена времен года происходит пластически зримо — в пейзажах, насыщенных объективным действием.
Плавно чередуются весна, лето, осень. Малейшее отклонение от четкого ритма констатируется с точностью до дней:
«Снег выпал только в январе
На третье в ночь ...»
Когда Татьяна прощается с природой перед отъездом в Москву, перед глазами читателя проходит целых три времени года, причем все они умещаются в одной строфе:
«Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима».
Как бы ни было уплотнено время повествования, Пушкин никогда не забывает о чередовании времен года. Но что интересно: как только Татьяна уезжает в Москву, прерывается и плавность чередования времен года. Год путешествия Онегина даже после публикации восьмой главы отдельно от романа не восполняет этот пробел. Значит, этот перерыв не случаен. Природа плавно движется по календарю в основном перед глазами Татьяны. Естественно, что с ее отъездом движение прерывается.
Впервые смена времен года как сюжетная линия возникла тогда, когда среди битв Троянской войны Гомер запечатлел на щите Ахилла эпическую вселенную с «широким полем», «тучной пашней», прекрасными звездами и серебряным месяцем.
Главное не в том, что сюжет времен года идет от Гомера. Наше внимание привлекает тот удивительный факт, что в воссоздании образа Природы Пушкин вопреки существующей традиции оказался во многом ближе к Гомеру, чем к своим современникам.
Новизна античного сюжета времен года в романе Пушкина заключалась в том, что впервые совместились два разрозненных принципа изображения природы: объективированный эпический и субъективный лирический.
Лессинг в «Лаокооне» открыл «живопись действием», то есть живопись, которая воссоздается путем мысленного перемещения тел в пространстве. Гердер дополнил эту классификацию понятием о «живописи чувством».
В романе «Евгений Онегин» можно найти оба типа живописи, но чаще всего они выступают в единстве:
«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась...»
В этом пейзаже видны не столько телесные лессинговские образы (солнце, туман, лес), сколько душевные изменения автора, его лирическая грусть об уходящем времени, в котором растворяются зримые очертания предметов. Здесь на первом плане не перемещение тел в пространстве, а движение чувства.
Но в этом же пейзаже есть и другая живопись, более близкая к представлениям Лессинга о телесной изобразительности:
«Встает заря во мгле холодной,
На нивах шум работ умолк,
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк ...»
Образы телесно зримы, как в гомеровском пейзаже, преобладает лессинговская живопись объективным действием (встает заря, выходит на охоту волк). Именно это действие воссоздает поток эпического времени в романе.
Сочетание этих двух планов — лирической и эпической живописи — и создавало глубокую развернутую картину природы, порождало тот взгляд на нее, который мы называем реалистическим. Понятие природы включает здесь в себя природу человеческих чувств и отношений, не растворяя их в чисто субъективном переживании.
Такой параллелизм в зачатке существовал еще в древности, когда психические процессы уподоблялись движению ветра, огня, воды. Так, в «Илиаде» Гомера душевное состояние героев перед битвой, их бесстрашие полностью выражено в пластических образах природы:
«Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов: но ахейцы
Сами ни силы троян не страшились, ни криков их грозных;
Ждали недвижные, тучам подобные, кои Кронид
В тихий, безветренный день, на высокие горы надвинув,
Черные ставит незыбно, когда Борей и другие
Дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи
Шумными уст их дыханьями вдруг рассыпают по небу:
Так ожидали данаи троян неподвижно, бесстрашно».
Как отметил А. Ф. Лосев, внутренний мир человека в «Илиаде» не столько сравнивается с природой, сколько уподобляется ей, порой до полного тождества. Именно поэтому в эпосе преобладает живопись действием. Вместо движения чувств перед нами перемещение телесных пластических образов (тучи, горы). Лирическая живопись чувством появилась значительно позднее.
У Пушкина параллелизм человека и природы, конечно, основан не на буквальном уподоблении человеческих чувств природным процессам, а на равноправном сравнении стихии природы и стихии человеческих чувств. При таком понимании природы граница между нею и человеком всегда подвижна. Природа раскрывается через человека, а человек через природу. Весна — это еще и любовь, любовь — это еще и весна:
«Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Огнем весны возрождено.»
Это сравнение любви и весны еще умещается в русле традиционных романтических сопоставлений с природой, когда на первом месте человеческие чувства, а сама природа здесь присутствует как повод для сравнения. Мы не можем видеть, как «зерно огнем весны возрождено», а если и увидим, это уведет нас от конкретного лирического образа.
Для Пушкина такое растворение реальной природы во внутреннем мире человека не характерно. В его сравнениях природа не теряет свою пластичность и зримость. В этом его коренное отличие от романтиков. Здесь возрождение античной телесности мира на новом уровне. (Близость пейзажа Пушкина к гомеровским принципам изображения была впервые замечена И. С. Тургеневым в рецензии «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. С. А. [...] ва. М„ 1852».)
Весна возникает в конце романа не только как время года, но и как любовь Онегина:
«Дни мчались, в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима...
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок...
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег...»
Весна не просто условное отражение внутреннего мира, она реально зрима, хотя одновременно она — и сравнение. То, что происходит в душе Онегина, подобно тому, что происходит в природе. Гердер не смог бы в этом отрывке найти лирическую живопись чувством. Здесь преобладает эпическая живопись действием: играет солнце, тает снег. Онегин несется вдоль Невы в санях. В то же время зримые и осязаемые образы передают незримое движение чувств: весна живит его.
«Евгений Онегин» насыщен пластическими пейзажами. Время в них сгущается, становится пространственным, вещественным, как пейзаж на щите Ахилла, когда среди войн, как окно в бесконечность, раскрывается двумерная перспектива идиллической мирной жизни.
Щит Ахилла — это античный космос в миниатюре, дающий представление о вечном возвращении в периодической повторяемости событий:
И на круге обширном
Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал.
Там представил он землю, представил и небо, и море.
Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,
Все прекрасные звезды, какими венчается небо:
Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,
Арктос, сынами земными еще колесницей зовомый:
Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона
И единый чуждается мыться в волнах Океана…
Круглая форма щита делает зримым вращение Арктоса, Плеяд, Ориона, и они следуют в пространственной двумерности щита друг за другом.
В романе «Евгений Онегин» круглую форму щита заменяет круговорот светил в равномерном чередовании друг за другом. Движение звездного неба пронизывает роман, как и смена времен года. Но запечатлена эта картина не на щите, а во взоре Татьяны Лариной.
Мир, открывшийся перед ее глазами, соткан из сияния звезд и рассвета:
«Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на чистом небосклоне
Звезд исчезает хоровод
И тихо край земли светлеет,
И вестник утра ветер веет
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
И доле в праздной тишине...
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она».
Роман насыщен движением света. В первой главе это мерцание свечей, фонарей. Затем искусственный свет все чаще уступает мерцанию звезд, тихому свету луны, сиянию солнца.
Сравним панораму звездного неба перед глазами Татьяны со световой стихией Петербурга:
«Еще снаружи и внутри
Везде мелькают фонари...
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят.
Усеян плошками кругом
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят...»
И вот наступает момент, когда искусственный «веселый» свет бала растворяется в величественном сиянии белой ночи:
«Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы ...
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!..
Все было тихо, лишь ночные
Перекликались часовые
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг».
«Лучом Дианы» озарена в романе Татьяна Ларина. Ее перемещение в пространстве часто связано с движением луны по небосводу. Татьяна и луна подчас неразлучны.
«Настанет ночь, луна обходит
Дозором дальний свод небес...
И между тем луна сияла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы ...
И все дремало в тишине
При вдохновительной луне...
И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
... И вот она одна.
Все тихо. Светит ей луна.
Облокотись, Татьяна пишет...»
Лунным светом озарено начало письма Татьяны к Онегину и им же оно завершается:
«Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет...»
И вот опять луна — в час гадания:
«Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
... Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,
Она дрожала и бледнела...
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит,
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна».
Дрожание руки, трепетное биение человеческого пульса, слитое со вселенной, – удивительная метафора, отражающая единство человека и мироздания.
Даже эта далеко не полная световая панорама приводит нас к выводу, что роман «Евгений Онегин» расцвечен не цветом, а светом. Чаще всего цветовая палитра романа — это восход или заход солнца, отблеск свечей или камина, свет луны, мерцанье звезд, розовых снегов. Световая палитра романа — это серебристое ночное свечение звезд и луны, переходящее в золотой и алый свет камина или солнца. Роман как бы соткан из живого света. Цвет, не связанный с естественным свечением, в нем почти отсутствует.
Свет, пронизывающий роман, создает неуловимый космический фон событий. Картина природы это одновременно картина вселенной. Причем, свет никогда не бывает статичен. В каждом отдельном случае он выступает как развернутая световая метафора. В лексике XIX века и, в частности, в лексике самого Пушкина образ огня и света имеет особое значение. Огонь и свет — символ жизни. Мрак символизировал смерть. Наиболее ярко свет как утверждение вечной жизни природы раскрывается в сцене дуэли Онегина и Ленского.
Уже за день до начала дуэли Пушкин подробнейшим образом описывает смену дня и ночи и в особенности утро перед дуэлью. Ленский, сверяя время перед роковым выстрелом, «на солнце, на часы смотрел». Онегин перед дуэлью не видит солнца, погруженный в глубокий сон.
«Уже редеют ночи тени
И встречен Веспер петухом;
Онегин спит еще глубоко.
Уж солнце катится высоко...»
Утренняя звезда Венера названа здесь Веспером — звездой вечерней, предвещающей закат жизни Ленского. Сам Ленский тоже обращается к традиционным световым метафорам, говоря о возможной своей гибели:
«Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день,
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень...
А перед этим еще определеннее:
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он...»
Смерть Ленского в романе как бы зримо сливается с жизнью природы и ее возрождением.
А путь Татьяны вместе с луной, вместе со всей природой продолжается. И вместе с ней движется вся ее вселенная с журчаньем ручьев, жужжаньем жука, с извечным мерцаньем света: от луны до рыбацкого костра. И вдруг весь этот мир застывает перед уходящим вниз склоном: перед внезапно открывшимся другим миром. Миром, который уже знаком читателю, но с которым Татьяна встречается впервые в кабинете Онегина, где «столбик с куклою чугунной» олицетворяет совсем другое, чуждое природе сугубо индивидуалистическое начало.
Различны образы вселенной в раннем русском реалистическом романе, и по-разному чувствует себя человек среди бесконечности. Татьяна Ларина смотрит на небо не взором мгновенным, а взором долгим, поэтому ее вселенная пронизана движением света: хоровод звезд — исчезает, край земли — светлеет. В ее глазах вселенная всегда движется.
Перед глазами Онегина, как и перед глазами Татьяны, переливается световая стихия, но это не стихия звезд, луны, солнца. Это блеск фонарей, свечей, отсвет камина. Лишь однажды перед его глазами возникает луна, да и то как повод для иронического сравнения, когда он говорит об Ольге: «Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна
на этом глупом небосклоне».
Онегин не верит ни в совершенство космоса, ни в природу, ни в природу собственных чувств: «Я сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас», — пытается убедить он Татьяну и вместе с тем самого себя.
В книге «Поэзия и правда» Гёте писал об отвращении к жизни, которое постигает порой людей мыслящих и самоуглубленных. Причем это разочарование проявляется прежде всего в отрицании равномерных чередований времен года, дня и ночи, цветения и увядания. Человек начинает тяготиться периодической повторяемостью природных явлений, которые, по Гёте, и являются «подлинной пружиной всей жизни и ее природных процессов»6. Это положение Гёте можно обобщить и сказать, что человек начинает вообще тяготиться временем, в основе которого всегда лежит периодическая повторяемость событий.
Онегин не чувствует времени, не ценит его. потому что жизнь для него пока пуста. Он не считает ни дней, ни часов, ни лет, хотя все время спешит. Отсюда его жажда пространства, «охота к перемене мест» Замкнутый в своем мире Онегин не чувствует времени, которое пронизывает всю вселенную единым жизненным ритмом, как это чувствует Татьяна.
Конечно безграничное небо над головой, как и бесконечное пространство вселенной важны не сами по себе. В этих образах сконцентрированно отражена красота, гармоничность и природная глубина человеческого мира. Неприятие бесконечности мира, выраженное в этих образах, говорит прежде всего о глубоком душевном разладе во внутреннем мире Онегина.
Поисками эпической гармонии между миром и человеком пронизано все сюжетное действие романа «Евгений Онегин».
Любовь к Татьяне пробуждает в Онегине обостренное чувство природы. Кончилось существование, когда он не чувствовал ни дня, ни ночи а время измерялось чередованием балов и обедов. Кончилась пора пустой праздности в деревне, которой Онегин отдавался «нечувствительно». Кончилось пустое и бессмысленное путешествие в никуда, где он мечтал о смерти. Теперь для Онегина «дорог день» и «дорог час». Чувство времени становится обостренным:
«Я знаю, век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я».
Здесь выясняется еще один аспект во взаимоотношениях Онегина и Татьяны. Татьяна глубже чувствует природу собственных чувств: «пора пришла — она влюбилась». Онегин жил, как бы обгоняя природу:
«Нас пыл сердечный рано мучит.
Очаровательный обман,
Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заране...
Природы глас предупреждая,
Мы только счастию вредим».
Стремление Онегина обогнать природу, оказаться умнее будущего сказалось в его ответе Татьяне: «Я сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Онегин голосом холодного разума пытается заглушить возникающее в нем чувство и предупредить события, но в конце романа побеждает голос природы, голос любви.
Драма человеческого бытия раскрывается здесь на фоне исторической и природной бесконечности мира. Время действия романа «Евгений Онегин» — вечность, а место действия — вся вселенная. Укажу здесь в подтверждение этой мысли на огромную роль пространственных пейзажей в «Евгении Онегине», на его световую палитру.
Не учитывая этой глубокой взаимосвязи, трудно понять, каким образом «Евгений Онегин», произведение внешне, казалось бы, далекое от прямой постановки философских проблем (в противоположность, например, «Фаусту» Гёте), дало нам столь глубокое понимание смысли человеческой жизни и места человека среди природной и исторической бесконечности.
Константин Кедров
Кандидатская диссертация «Эпическая основа русского реалистического романа 1-й половины XIX в.» (1974 г.)
Содержание
Вступление
Глава 1. Лирико-драматическая эпопея А.С. Пушкина
Глава 2. Трагическая эпопея М.Ю.Лермонтова.
Глава 3. Комическая эпопея Н.В.Гоголя.
Вступление
Вопрос об эпическом роде и жанре является предметом незатихающих дискуссий. В этой работе рассматриваются лишь некоторые аспекты эпического рода, нашедшие воплощение в жанре реалистического романа первой воловины XIX века.
Мы исходим из классификации Шеллинга и Гегеля, воспринятой и развитой русской критикой. Согласно этой классификации главное свойство эпического рода – его объективность, вытекающая из объективного характера отражения в искусстве единства мира и человека.
Европейская эстетика в той или иной форме чаще всего отвергает такой подход, подчас полностью отказываясь от понятия рода и жанра. Такова была попытка Г.Брюллюэна доказать, что жанры погибают в ходе эволюция так же, как погибают роды и виды в животном мире. В эстетике Б. Кроче теория жанров отвергается как рассудочная, противоречащая интуитивному озарению художника. Гегелевская теория рода и жанра отвергается также и с позиций позитивистской лингвистической философии, где жанры и роды уподоблены грамматическим и стилистическим категориям.
Так эпическое и лирическое признается лишь как два стиля. Определение же сводится к подсчету подлежащих и сказуемых (подлежащие относятся к эпосу, а сказуемые к лирике или драме).
Сложнее обстоят дело в экзистенциалистской эстетике Штайгера и Шварца. Здесь жанр определяется в его отношении ко времени (прошлому, будущему, настоящему). В целом такой подход возрождает отчасти аристотелевскую классификацию, не противоречит он также и классификации Гегеля. Весь вопрос в конкретном понимании времени» В эстетике Штайгера и Шварца время – чисто психологическая категория:
Прошлое – память
Будущее – ожидание
Настоящее – переживание
Штайгер и Шварц исходят из положений эстетики Хайдеггера о «прафеноменологичности жанров» «в качестве определяющего момента их отношения к нашему временному существованию» (Верли М. «Общее литературоведение». М., Иностранная литература, 1957, с.113).
Эпос – прошлое
Лирика – настоящее
Драма – будущее
Определения эпического рода в его отношении ко времени верно и должно быть принято лишь в том случае, когда время берется не как чисто психологическая категория, а в его конкретном объективном, историческом и социальном, бытии» Так в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» время – это и эпоха, выраженная в характерах и этнографии быта, это и природа: смена времен года веред глазами Татьяны, и наконец авторское отношение к одним м тем же событиям иногда с позиций прошлого, иногда будущего и настоящего.
Содержательное определение эпического рода очень четко сформулировано у Гегеля
Эпос возник в период героического состояния мира, когда судьбы вершили герои от лица всего коллектива. Гегель имел в виду героев Гомера, чье личное «я» почти не отделается от «субстанционального» родового сознания.
Сложнее обстоит дело с пониманием эволюции эпического рода в конкретных жанрах. Поскольку в историческом процессе личность все более кристаллизовалась и выявлялась из родового сознания как индивидуальное сознание, усложнялся и эпический жанр. Если в гомеровской эпопее герои, по Гегелю, несут в основном черты родового сознания, то в «современной эпопее» – в романе XIX века – личность раскрывается прежде всего в борьбе о общественными формациями, так или я иначе ее угнетающими. Поэтому главное в романе – «конфликт между поэзией сердца и противостоящей ей прозой отношений» (Гегель Г. Соч., М.,Соцэгиз,1938-1958, т.XIV, с.273).
По родовым признакам, пишет Гегель, роман не отличается от эпопеи, но различается по жанрам.
Здесь намечается противоречие, которое вытекает из предпосылок гегелевской эстетики. Гегель прав, когда считает, что роман есть та же эпопея, где личность, «субстанциональный герой», находится все в большем противоречии с обществом.
Однако как увязать это положение с утверждением Гегеля о почти полном отсутствии таких противоречий в эпопее Гомера? Мы покажем в дальнейшем, что Гегель просто преувеличивал безмятежность гомеровского эпоса. Противоречия
нарождающегося рабовладельческого строя уже четко ощущаются в эпопее Гомера. Именно поэтому она и возникла. Эпос Гомера, как и современная эпопея – роман, повествует о борьбе личности. Разница лишь в том, что в гомеровском эпосе ее личность борется почти неосознанно, повинуясь «судьбе». А в романе личность осознав себя, ведет в большей или меньшей степени осознанную борьбу с социальными законами.
Однако «субстанциональное» единство личности с миром есть главный и важнейший признак эпического рода (в эпопее или в романе). Борьба идет именно за это единство на природном и социальном уровнях. Борьба потому и возможна, что личность чувствует или осознает свое изначальное единство с обществом и природой и борется за восстановление такого единства на новых исторических уровнях.
Именно в этом смысле надо понимать эпический род, как объективный. Здесь лирические и драматические переживания носят объективированный социально-исторический и природный характер.
Гегель совершенно справедливо считал, что в трагедии, как и в романе, главная тема – разлад между обществом и личностью. Тем самым Гегель рассматривает эпический жанр как синтетический, содержащий в себе и трагедию, и лирику.
Однако, как правильно замечает И.С.Пал (Пал И.С. Вопросы теории жанра. МГУ,1966), Гегель дает и другую классификацию. Если в разделе о роде лирика противостоит драме, а эпос рассматривается как синтез двух родов, то во Введении к эстетике синтетическим жанром названа драма (эпос – объект, лирика – субъект, драма – синтез).
Ошибочность последней классификации очевидна. Она привела Гегеля к неверному положению о перспективности драмы и умирании романа. На самом деле роман оказался наиболее перспективным жанром, подлинной эпопеей века.
Мы считаем более точной классификацию, данную Гегелем в разделе о роде, где лирика – субъективное действие, драма – объективное, а эпос — синтез двух родов, включающий в себя как объективность внутреннего, так и внешнего мира. Эпический род выступает здесь, как объективный и синтетический в неразрывном единстве с лирикой и драмой. Справедливо писал Шеллинг: «В эпосе как субъект (поэт), так и сюжет объективны» (Шеллинг Ф. Философия искусства. М., Мысль, 1966).
Таким образом, в нашей работе мы исходим из определения эпического рода как синтетического, включающего в себя и лирику, и драму, и в силу этого наиболее объективного жанра.
Остается в силе для нас и главное, «содержательное» определение эпического рода, данное Гегелем. Эпический герой обязательно несет в себе «субстанциональное сознание, то есть эпический герой в той или иной форме отражает в своем внутреннем мире единство человека с миром. Но мы считаем, что единство это обязательно обретается в борьбе человека с отчуждающими законами социального угнетения и отчасти
в борьбе с природой.
Однако здесь возникает еще один аспект исследования. На разных ветках исторической спирали борьба и единение личности с обществом и природой носит разный характер. Эпическая ситуация возникает в переходный период, когда старая формация отмирает и видна как бы со стороны, а новая еще не закрепилась, еще не стала
нормой общественного сознания. Гомер писал об отмирающих, почти патриархальных временах Троянских войн, а Сервантес об отмирающем, почти умершем рыцарском мире.
Своеобразие эпоса каждой эпохи может быть понято лишь в соотношении с эпосом предшествующих эпох. Кроме того, общие «субстанциональные» свойства, присущие гомеровской эпопее, в той или иной мере присущи и всякому эпосу во все времена.
Следует отметить, что многие вопросы, связанные с исследованием эпического рода в романе, в этой работе не затрагиваются. В ней исследуются менее изученные аспекты эпического в романе, соотношение эпического в русском романе с эпическим в гомеровском эпосе и мировой литературе, эпическое время в романах Пушкина, Лермонтова, Гоголя.
Как мы покажем в своей работе, глубокие трагические контрасты эпохи с неумолимой закономерностью приводят Лермонтова к греческому взгляду на мир и в частности на природу. Таким образом эпическое в романах Пушкина, Лермонтова, Гоголя означает не столько растворение личности в «субстанциональном», родовом или природном начале, сколько обретение нового единства личности с миром через борьбу,
Глава 1.
Лирико-драматическая эпопея А.С. Пушкина
Прежде чем перейти вплотную к теме нашей работы, следует внести ясность в довольно запутанную терминологию об эпическом роде в жанре романа, о различиях и сходстве между жанровыми и родовыми признаками эпического в романе.
Классическое определение Шеллинга и Гегеля, согласно которому эпос как род вмещает в себя все выходящее за пределы субъективного мира автора и героев, все объективное в повествовании остается в силе.
Такое определение достаточно широко, чтобы быть определением рода. Эпическое относится к тем широким понятиям, которые могут быть выражены только через свою противоположность в силу своей объемности и широты.
Труднее обстоит дело с положительными определениями эпического. Всякое положительное определение эпического рода будет условным в силу своей ограниченности. Конкретное воплощение литературного рода возможно только в жанре, а понятие об эпическом жанре менялось и меняется по сей день вместе с изменениями самих жанров.
В эпическом жанре романа мы имеем дело не с арифметической суммой трех родов, но с неразрывным единством.
Однако и сегодня эпический род, присутствующий во многих жанрах, не редко отождествляется с самим жанром. Так В.Днепров предложил вообще отказаться от термина «эпическое» в жанре романа, ибо роман на составные части (эпос, лирику, драму) неразложим (Днепров В.Д. Черты романа ХХ века. М., Сов. писатель, 1965, с.514-535). Однако В.Днепров прибегает именно к такому расчленению, искусственно разделяя в современном романе драматическое и лирическое начале как ведущие, будто бы существующие независимо от эпического.
Другое дело представление об эпосе как о роде, присутствующем во многих жанрах, в том числе и жанре романа. Хотя художественная ткань романа едина, в ней часто даже без предварительного анализа четко различимы признаки эпоса, лирики, драмы. Равными исследователями неоднократно было замечено, что роман часто тяготеет в каждом отдельном случае к определенному роду.
Драматичен общий тон «Преступления и наказания» на фоне эпического спокойствия «Войны и мира». Лирико-драматическая приподнятость «Евгения Онегина» часто заслоняла от современников эпическую широту и плавность романа.
Правильно ли было бы на этом основания отказаться от анализа лирического в «Войне и мире», от размышлений над эпической основой первого русского реалистического романа «Евгений Онегин»?
Мысль Днепрова о неразложимости художественной ткани романа как раз опровергает его установку о полном разрыве жанра романа с эпосом. Говорим ли мы об эпическом или о лирическом в романе, речь идет об одном и том же тексте, разный здесь только угол зрения. Эпос, лирика, драма – не просто составные, а взаимопроникающие части романа, это одно целое. Когда мы рассматриваем эпическую основу романа, мы просто выделяем эпос как целое, а лирика, драма присутствуют в нашем анализе как составные элементы. Если же мы рассматриваем лирическую основу романа, эпос выгладит составным элементом. В обоях случаях меняется только угол зрения, тогда как художественное единство трех родов остается нерасчлененным.
В дискуссиях о жанре романа термин «эпическое» все чаще употребляется для обозначения как жанровых, так и родовых признаков. Уже в определении романа как современной эпопеи смешались родовые и жанровые признаки эпоса. Это порождает
Разноголосицу, которая длится и по сей день.
Говорят, роман – жанр эпический. Но в то же время бытует термин «роман-эпопея», как бы оттеняющий в эпическом жанре романа еще большую эпичность. Между тем, речь здесь идет о разных вещах. Когда «Войну и мир» называют романом-эпопеей, подчеркивается жанровая близость романа и эпоса Гомера. Но беда в том, что жанровые признаки подчас отождествляются с признаками эпического рода в романе и тогда происходит путаница понятий.
В специальных исследованиях Г.Гачева (Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968) и А.Чичерина (Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958), посвященных эпической природе романа, обходятся молчанием и «Евгений Онегин», и «Герой нашего времени». Это объясняется, по-видимому, тем, что в этих романах нет чисто жанрового сходства с эпопеей Гомера. Между тем, глубокие свойства эпического рода присутствующие в романе, остаются за пределами исследования.
Стремясь отчасти восполнить этот пробел, мы сосредоточим свое внимание прежде всего на признаках эпического рода в этих романах.
* * *
Проблема эпического в начале XIX века была горячей и актуальной. К тому была масса причин: неудачные попытки создания «русского эпоса» («Петрида»), стремление осмыслить историческую эпоху Петра I, Двенадцатым год и рост национального самопознания, выход русском литературы на мировую арену, где – Шекспир, Сервантес, Гете.
Эпоса ждали и требовали все. Тем более странно, что почти никто из современников не увидел современного эпоса в первом русском романе. Называя «Евгений Онегин» первым русским романом, мы вовсе не хотели умалить заслуг предшествующих писателей, искавших и создававших форму русского романа задолго до Пушкина. Среди этих романов «Евгений Онегин» первый по степени совершенства, первый в смысле последующих творений Лермонтова, Гоголя, Толстого, Тургенева, Достоевского. В этом смысле особенно характерна запись в дневнике Кюхельбекера 17 декабря 1831 года:
«У меня в голове бродит вопрос: «Возможна ж поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков?»… «Беппо» и «Дон-Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина – попытки в этом роде, но (надеюсь, всякий согласится) попытки очень и очень слабые, особенно если сравнить их и «Илиадою» и «Одиссеею», и не потому, что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это не последнее), а главное, что они смотрят на европейский мир, как сатирики, как судьи, как поэты-описатели: личность их нас беспрестанно разочаровывает, – мы не можем обжиться с их героями, не можем забыться» (Дневник Кюхельбекера. «Прибой», 1929, с. 25-26).
Мы приводим полностью это высказывание Кюхельбекера, потому что в нем сконцентрировано и понимание, и непонимание «Онегина», как с позиций классицистов, так и с позиций роман таков. Кюхельбекер, с одной стороны, почувствовал, что «Онегин»
есть «попытка в этом роде, то есть стремление создать эпическое произведение о современности. А, с другой стороны, он смотрит на «Онегина» сквозь романтического «Дон-Жуана». Он не видит, что «личность» в «Онегине» выступает не в романтическом самодовлеющем плане («как будто нам уже не можно писать поэмы о другом, как только о себе самом»), а как раз в плане эпическом, реальном, когда «субъект (поэт) и объект (сюжет) объективны».
Романтик Полевой за шесть лет до Кюхельбекера расхваливал главы «Онегина» за те свойства, которые в глазах Кюхельбекера были основными недостатками. Но Полевой хвалит «Онегина» именно потому, что, как и Кюхельбекер, не может отделить его от романтических поэм Байрона, не замечает в нем эпического начала. Полный отказ от анализа эпического приводит Полевого порой к поверхностному и скользящему взгляду на этот роман.
«Он (Пушкин – К.К.) не кривляется, дуя в эпическую трубу, не сходит в толпу черни… и здесь тайна прелести поэмы Пушкина... герой его шалун с умом, ветреник с сердцем»… «Зачем не пишет он поэм в силу правил эпопеи? Та беда, что поэт неволен в направлении своего восторга, что ему поется, то он поет…» (Здесь уместно вспомнить слова Пушкина, что «восторг всегда вдохновение, но вдохновение не всегда восторженно», «единственный план Ада есть уже план гения»).
«В музыке есть вид произведений, называемых – и в поэзии есть они, таковы «Дон-Жуан» и «Беппо» Байрона, таков «Онегин» Пушкина. Вы слышите очаровательные звуки, они льются, изменяются, говорят воображению и заставляют удивляться силе и искусству поэта" (Все цитаты Полевого из «Московского Телеграфа», 1825, ч II, № 5, март).
В полемике с классицизмом Полевой не заметил эпического своеобразия «Онегина», так же как Кюхельбекер не заметил его в борьбе с романтизмом.
Самое удивительное, что «Онегина» не понял Надеждин, критик, столь тонко чувствовавшим необходимость развития эпического жанра. ««Евгений Онегин» не был и не назначался быть романом» («Телескоп», 1832, ч.9, № 9). «Онегин» для него лишь «рама с картинками». Это говорит о романе тот же автор, который за год до этого доказывал, что «истинное направление нового поэтического духа выражается в постоянном стремлении ко всеобщему уравнению с беспредельной полнотой жизни», что жанр романа «своей беспредельной всеобъемностью, допускающей все формы представления и все тоны выражения, он представляет просторную раму для свободного живописания беспредельной пучины жизни» («Телескоп», 1831, ч.1, № 1).
Первым, кто почувствовал эпическое своеобразие «Онегина» был Белинский: «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе героев нет ни одного исторического лица» (Белинский В.Г. О Пушкине). Для него исторический роман был формой современного эпоса. Считая «Евгений Онегин» исторической поэмой, Белинский в полемике с еще живым классицизмом назвал роман Пушкина не эпической, а лирической поэмой, Это определение Белинского отчасти исходит из триады (эпос – лирика – драма), где эпосу приписывается только объективность, а лирике только субъективность.
Вторая причина определения «Онегина» только как эпической поэмы содержится в особенности понимания олова «эпический» в то время. Как мы уже отмечали, под лозунгом эпического выступали и классицисты, и архаисты, для которых эпос означал втискивание современной тематики в форму гомеровской эпопеи. Призыв к эпическому в такой интерпретации звучал как призыв к уходу в рутину казенного патриотизма и официальной напыщенности. «0н понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла в самую поэзию, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь как она есть, не отвлекая от нее только… поэтических мгновений» (В.Г.Белинский).
Таким образом, объективно рассмотрев роман «Евгений Онегин» как произведение эпического жанра, как современный исторический роман, Белинский в силу субъективных причин, которые мы рассмотрели, назвал «Евгения Онегина» лирической поэмой.
Для Белинского исторический роман был формой современного эпоса. Считая «Евгения Онегина» исторической поэмой, он в полемике с классицизмом противопоставляет эпопее лирическое начало. Но, выдвинув в эпической поэме лирическое начало на первый план, Белинский как раз подошел к истинному определению эпического, как синтеза лирики и драмы.
Слово «эпос» и в наши дни остается запретным в применении к роману «Евгений Онегин», Это объясняется тем, что открытие Пушкиным лирического, личностного начала в романе «Евгений Онегин» было слишком грандиозным. И до сегодняшнего дня оно в первую очередь привлекает внимание исследователей. Уже настало время для постановки вопроса о соотношении лирического и драматического начал романа с его эпичностью.
Конечно, косвенным образом эпическое начало «Евгения Онегина» рассматривалось во всех крупных исследованиях романа. В.Кирпотин выдвинул положение о концентрации в характерах Онегина и Татьяны двух исторических эпох: Просвещения и позднего байронического индивидуализма (Кирпотин В.Я. Вершины. М., 1970).
Исследования в этом направлении продолжил Гуковский. Он вскрыл широкий план народной жизни, сконцентрированный в этнографии быта и психологии Лариных (Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957).
О народности мировосприятия Татьяны Лариной, а также об историзме романа писал Б.Томашевский (Томашевский Б.В. Пушкин. М.-Л., 1956. Т.2).
Ю.Тынянов указал на особую позицию Пушкина в споре с карамзинистами. Пушкин отстаивал необходимость крупных эпических форм в литературе, начиная о «Руслана и Людмилы» и кончая «Евгением Онегиным» (Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969).
А.Слонимским проанализировал народные фольклорные глубины мира Татьяны Лариной (Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., Гослитиздат, 1963).
Лотман, Бочаров и Поспелов подробно рассмотрели перспективу художественного времени в «Евгении Онегине», тем самым затронув вопрос об эпической широте романа.
Виноградов открыл особое соотношение субъекта и объекта в романе, где «граница между автором и героем подвижна». Косвенным образом здесь подтверждается подвижность границы между лирикой и эпосом Пушкина (Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971).
Благой, отметивший особую роль времен года в романе, хотя и определяет жанр романа традиционно, подчеркивая в нем лирическое начало, последнее время делает особый упор на его эпическую широту: «0 сознании поэтом грандиозности этого художественного задания, масштабах его свидетельствуют неоднократно возникавшие в нем в процессе работы над «Онегиным» и в высшей степени характерные аналогии с такими величайшими творениями художественного слова, как «Илиада» Гомера, «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете» (Благой Д.Д. Проблемы типологии русского реализма. Тезисы докладов и сообщений. М., 1970).
Именно с Гомера надо начинать разговор об эпичности Пушкина. На это наталкивает сам текст романа. О том же свидетельствует непосредственное обращение Пушкина к гомеровскому гекзаметру в стихотворении, посвященном окончанию работы над «Евгением Онегиным» в Болдине 25 сентября 1830 года: «Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний...»
Эпическое мировосприятие всегда возникало на стыках истории, когда новое, вытесняя старое, еще не полностью завладевало умами, еще не становилось закостеневшим, еще не становилось каноном. Такова была гомеровская эпоха, когда общинная патриархальная психология уже виднелась со стороны, как преодоленный этап, между тем как новая формация еще не завладела умами полностью.
В период перехода от Средневековья к Возрождению Данте создает «Божественную комедию». Сервантес создал настоящий средневековый эпос – роман «Дон Кихот».
В этом широком плане мы обращаемся к эпической музе Пушкина.
К моменту возникновения романа «Евгений Онегин» эпическому жанру угрожала опасность растворения в сюжете «Илиады» Гомера, как это случилось с «Россиадой» и «Петриадой» Хераскова.
Опасность растворения современности в древнем мифе исходила и от романтической критики, требующей для современности античной тоги. С таким подходом Пушкин полемизировал на страницах романа:
«Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив...
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть».
Прямая перефразировка начала «Роосиады» Хераскова выделена шрифтом и не оставляет сомнения в направленности текста против прямого подражания древним в построении современной эпопеи.
В новой редакции романа Пушкин стремится к преодолению бурлескного тона по отношению к «Илиаде» и устраняет из окончательной редакции строки, где сюжет «Илиады» и «Онегина» сопоставлялся в чисто ироническом плане:
«Никто и спорить тут не станет,
Хоть за Елену Менелай
Еще сто лет не перестанет
Терзать Фригийский бедный край,
Хоть вкруг почтенного Приама
Собранье стариков Пергама,
Ее завидя, вновь решит:
Прав Менелай и прав Парид.
Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас обождать:
Извольте далее читать;
Начала не судите строго:
Сраженье будет».
Сраженье, о котором пишет Пушкин,– будущая дуэль Онегина с Ленским. Ирония же заключается в том, что высокий план героической эпопеи сопоставлен с бытовым, современным – низким.
Однако Пушкин устраняет сравнение дуэли Онегина и Ленского с героическими сражениями в «Илиаде» и сравнение Татьяны с Еленой, так как ироническим планом сопоставление «Илиады» и «Онегина» не исчерпывается, а действительно существующая связь между ними названная вслух таким образом, выглядела бы слишком прямолинейной.
Вероятно, непосредственным поводом к пересмотру всего отрывка в целом с сохранением последней редакции послужила полемика, развернутая Булгариным вокруг отзыва Пушкина на перевод «Илиады», сделанный Гнедичем. Пушкин считал это событие выдающимся, должным повлиять на судьбу всей литературы» Его маленькая рецензия вызвала бурную полемику. Суть возражений критики сводилась к тому, что Пушкин непомерно завысил роль, которую «Илиада» может сыграть в современной жизни.
Полемика не прошла бесследно для Пушкина. Она вызвала глубокие раздумья над ролью гомеровского эпоса. Результатом этого и могло оказаться решение Пушкина устранить в следующей редакции строки, дающие хотя бы косвенный повод к иронии над Гомером. В окончательном варианте осталось лишь несколько строк:
«И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!»
Здесь сопоставление сельского быта Лариных с гомеровскими пирами вносит иронический оттенок в понимание «суетной» современности в сопоставлении с величавой цельностью гомеровских героев.
Образ «суетного пира» XIX столетия на фоне гомеровского эпоса есть и в другом стихотворении Пушкина, посвященном Гнедичу:
«С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбив листы своей скрижали.
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Сходить под тень долины малой.
Ты любишь гром небес и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой».
Стихотворение это в данном случае примечательно еще тем, что дает возможность увидеть истинное отношение Пушкина к Гомеру, подчас заслоненное ироническими выпадами поэта против классицизма. Мир Гомера своей приподнятостью и цельностью противостоит «безумству суетного пира» XIX столетия.
Но «гром небес» не может заглушить «журчанье пчел над розой алой» – ценность внутреннего мира отдельной личности.
В стихотворении, посвященном окончанию романа «Евгений Онегин» Пушкин писал:
«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Иль жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»
Строки гекзаметра невольно обращают наш взор к Гомеру, и действительно сам текст романа свидетельствует, что Пушкин много размышлял об «Илиаде» Гомера, работая над своим романом.
Еще ценнее для нас прямые поэтические свидетельства, говорящие о глубоком понимании Пушкиным гомеровской эпопеи. Эти свидетельства вызваны также переводом Гнедича:
«Слышу божественный звук умолкнувшей эллинской речи.
Старца великого тень чую смущенной душой».
Пушкин зачеркнул другие строки, свидетельствующие о том, что он не только читал Гомера в переводе Гнедича, но и сличал его с подлинником: «Боком одним с образцом схож и его перевод». Эти строки могли бы принизить подвиг Гнедича и хотя бы косвенно повредить популярности его перевода. Гораздо точнее были слова о смущеньи поэта перед тенью «великого старца».
Сходя с гомеровского Олимпа под «тень долины малой», мы невольно погружаемся в первозданный мир Татьяны Лариной в ее единстве с природой, и этот мир оказывается насыщенным античными образами, придающими происходящему особый подтекст и смысл. Этот мир оказывается по особому близок эпическому миру Гомера, где человек и природа выступают в неразрывном единстве.
Эпиграфом к третьей главе романа взяты слова Мальфилатра: «Она была девушка, она была влюблена», – из поэмы «Нарцисс на острове Венеры». Если учесть, что в главе речь идет о двух посещениях Онегиным имения Лариных, становится ясным ироническое сопоставление его в данной ситуации с Нарциссом. «Остров Венеры» здесь – имение Лариных. Образ острова возникнет и позднее, в конце седьмой главы при упоминании Киприды и Зевса, о чем мы уже говорили. А в этой ситуации Татьяна сравнивается с нимфой Эхо, влюбленной в Нарцисса.
Поскольку Пушкин всегда придавал большое значение эпиграфам, в данном случае эпиграф взят из книги Мальфилатра, разрезанной Пушкиным «от начала до конца», мы в праве видеть здесь не бурлеск, а вполне глубокое соотнесение любовного сюжета «Онегина» с античным, заимствованной Мальфилатром у Овидия (Гессен А.И Все волновало нежный ум. М., 1965).
Однако этим не исчерпывается сопоставление Татьяны с античными образами. Луна, везде и всюду сопровождающая Татьяну на страницах романа, названа именем античной богини-охотницы Дианы. Хотя сопоставление здесь не так явно, как в третьей главе, и не выходит за пределы ассоциативного намека, интересно, что и здесь античный образ стоит в ряду ассоциаций, связывающих Татьяну с природой.
Все эти сопоставления с античным сюжетом даны в романе настолько ненавязчиво, что полностью исключают возможности чисто иронического подхода, Они не привлекли бы нашего внимания, если бы за ними не открывалась гораздо более глубокая подлинная связь «Евгения Онегина» с античным сюжетом, связь, выявляемая в образах природы в романе.
По меткому определению Р.Фокса, роман – это эпическая поэма о борьбе личности с обществом и природой (Фокс Р. Роман и народ. М., 1960). В этом определении есть один существенный недостаток.
Роман повествует не только о борьбе, но и о единении личности с миром. Именно поэтому он и сохраняет многие свойства классической эпопеи.
Мир – это природа и общество. Конечно, по отношению к обществу личность в XIX веке могла раскрыться прежде всего в борьбе. Естественно, что именно эта сторона привлекала прежде всего внимание исследователей.
Все эти проблемы имеют прямое отношение к вопросу об эпическом в романе, и они уже исследованы достаточно широко.
Менее исследован и менее ясен вопрос о единстве и борьбе личности с природой, со всей вселенной в целом. Вот почему, говоря об эпической основе русского романа, мы сосредоточили свое внимание прежде всего на космическом и природном фоне эпического повествования в раннем русском реалистическом романе.
Автор считает задачу данной работы выполненной, если ему отчеств удалось восполнить этот пробел.
Различны образы вселенной в раннем русском реалистическом романе, и по-разному чувствует себя человек среди бесконечности. Татьяна Ларина смотрит на небо не взором мгновенным, а взором долгим, по этому ее вселенная пронизана движением света: хоровод звезд – исчезает, край земли – светлеет. В ее глазах вселенная всегда движется.
Для Онегина космос это лишь «глупая луна» на «глупом небосклоне». Он смотрит на природу поверхностным мгновенным взором, и там, где для Татьяны жизнь, для него лишь перечень скучных явлений: роща, холм, поле...
Замкнутый в своем мире Онегин не чувствует времени, которое пронизывает всю вселенную единым жизненным ритмом, как это чувствует Татьяна.
Конечно, безграничное небо над головой, как и бесконечное пространство вселенной важны не сами по себе. В этих образах сконцентрированно отражена красота, гармоничность и природная глубина человеческого мира. Неприятие бесконечности мира, выраженное в этих образах, говорит прежде всего о глубоком душевном разладе во внутреннем мире героев.
Пушкин писал Вяземскому: «Роман мой расчислен по календарю». Календарь природы всегда перед глазами читателей. Ритм эпического времени романа соответствует плавному шествию времен года. Смена времен года происходит пластически зримо, в пейзажах, насыщенных объективным действием. Плавно чередуются весна, лето, осень. Малейшее отклонение от четкого ритма констатируется с точностью до дней: «Снег выпал только в январе / На третье в ночь...»
Когда Татьяна прощается с природой перед отъездом в Москву, перед глазами читателей проходит целых три времени года. причем все они умещаются в одной строфе:
«Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница зима».
Как бы ни было уплотнено время повествования, Пушкин никогда не забывает о чередовании времен года. Однако интересно, что как только Татьяна уезжает в Москву, прерывает и плавность чередования времен года. Год путешествия Онегина даже после публикации, восьмой главы отдельно от романа не восполняет этот пробел. Значит этот перерыв неслучаен. Природа плавно движется по календарю в основном перед глазами Татьяны» Естественно, что с ее отъездом движение прерывается. Это указывает на известный параллелизм образов природы и Татьяны с античными образами, и становится тем более интересным, что сам сюжет времен года в европейской литературе ведет свою родословную от Гомера.
Впервые смена времен года как сюжетная линия возникла тогда, когда среди битв Троянской войны Гомер запечатлел на щите Ахилла эпическую вселенную с «широким полем», «тучной пашней», прекрасными звездами я серебряным месяцем.
Сюжет времен года пришел в европейскую поэзию в 1726 – 1780 годах в поэзию Томаса Грея и рассматривался как подражание «Георгикам» Вергилия. К Вергилию этот сюжет пришел от Гесиода так же, как к Гесиоду он пришел от Гомера, а к Гомеру от незапамятных мифов.
Сентименталисты увидели в этом сюжете концепцию «благой природы – наставницы истины и добра». У Томсона, как у всех сентименталистов, «представления о деревенской жизни отроились на негативной основе, как противоположность городу, где извращающая людей цивилизация делает их суетными, порочными рабами своих страстей и прихотей. В деревне жизнь человека гармонично сочетается с жизнью природы: она естественна, нравственна и покойна».
Зло самоустранялось: «крестьянин беден, но счастлив, ибо довольствуется немногим». Смерть, болезни растворились в религиозном пантеизме. «Сила природы, управляющая миром, равнозначна богу... Времена года выражают собой божественный порядок, и поэтому их изображение является одновременно прославлением бога:
«Природу возлюбив, Природу рассмотрев
И вникнув в круг времен, в тончайшие их тени,
Нам Томсон возгласил природы красоту,
Приятности времен, натуры сын любезный,
О, Томсон! ввек тебя я буду прославлять!
Ты выучил меня природой наслаждаться
И в мрачности лесов хвалить творца ее».
Так писал о Томсоне Карамзин. Так он его и переводил:
«Четыре времени, в пременах ежегодных,
Ничто иное суть, как в разных видах Бог.
Вращающиеся год. Отец наш всемогущий
Исполнен весь тебя...»
В 1832 году друг Пушкина Кюхельбекер поместил в журнале «Благонамеренный» подробный разбор «Херсониады» Семена Боброва, где множество сцен и картин заимствовано из «Времен года» Томсона. Дядя Пушкина Василий Львович напечатал в начале XIX века отрывок из «Осени» Томсона в вольном переводе:
«Кто в мире счастия прямого цену знает
И сельской жизни все приятности вкушает
В кругу света друзей, от шума удален,
Тот истинно в душе покоен и блажен...»
Романтическое решение той же темы в принципе не отличалось от сентименталистского:
«Не вид ли божества времен круговращенье?
Творец! тебя гласит тобою полон год?
В весне твоя любовь, краса, возобновленье:
Воскреснули поля! Цветет лазурный свод...» (В.Жуковский)
У Пушкина образ природы создан эпическими красками. Его «боги» неотделимы от природы – они люди. В этом смысле пейзажи Пушкина возрождают в новом качестве гомеровский взгляд на природу.
Главное здесь не в том, что сюжет времен года идет от Гомера. Наше внимание привлекает тот удивительный факт, что в воссоздании образа природы Пушкин вопреки существующей литературной традиции оказался ближе к Гомеру, чем к Жуковскому.
Новизна античного сюжета времен года в романе Пушкина заключалась в том, что впервые совместились два разрозненных принципа изображения природы: эпический и лирический.
Лессинг в «Лаокооне» открыл «эпическую живопись действием», то есть живопись, которая воссоздается путем мысленного перемещения тел в пространстве. Гердер дополнил эту классификацию понятием о «живописи чувством».
В романе «Евгений Онегин» можно найти оба типа живописи.
«Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив...»
Эти строки можно отнести к эпической живописи действием. Вот другой пейзаж из лирики Пушкина, где преобладает лирическая, гердеровская живопись чувством:
«Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...»
В романе «Евгений Онегин» чаще всего два вида живописи выступают в единстве.
«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась...»
В этом пейзаже видны не столько телесные лессинговские образы (солнце, туман, лес), сколько душевные изменения автора, его лирическая грусть об уходящем времени, в котором растворяются зримые очертания предметов. Здесь на первом плане не перемещение тел в пространстве; а движение чувства.
Но в этом же пейзаже есть и другая, эпическая живопись, более близкая к представлениям Лессинга об эпической изобразительности:
«Встает заря во мгле холодной,
На нивах шум работ умолк,
С своей волчихою голодной
Выходит на охоту волк...»
Образы телесно зримы, как в гомеровском пейзаже, преобладает лессинговская живопись объективным действием (встает заря, выходит на охоту волк), именно это действие воссоздает поток эпического времени в романе.
Сочетание этих двух планов – лирической и эпической живописи – и создавало глубокую развернутую картину природы, порождало тот взгляд на нее, который мы называем реалистическим. Понятие природы включает здесь в себя природу человеческих чувств и отношений, не растворяя их в чисто субъективном переживании.
Такой параллелизм в зачатке существовал еще в древности, когда психические процессы уподоблялись движению ветра, огня, воды. Так в «Илиаде» Гомера душевное состояние героев перед битвой, их бесстрашие полностью выражено в пластических образах природы:
«Ревностно в бой возбуждали ахейских сынов: но ахейцы
Сами ни силы Троян не страшились, ни криков их грозных;
Ждали недвижные, тучам подобные, кои Кронид
В тихий, безветренный день, на высокие горы надвинув,
Черные ставит незыбно, когда Борей и другие
Дремлют могучие ветры, которые мрачные тучи
Шумными уст их дыханьями вдруг рассыпают по небу:
Так ожидали данаи троян неподвижно, бесстрашно».
Как отметил А.ФЛосев, внутренний мир человека в «Илиаде» не столько сравнивается с природой, сколько уподобляется ей, порой до полного тождества. Именно поэтому в эпосе преобладает живопись действием. Вместо движения чувств перед нами перемещение телесных пластических образов (тучи, горы), лирическая живопись чувством появилась значительно позднее.
У Пушкина параллелизм человека и природы, конечно, основан не на буквальном уподоблении человеческих чувств природным процессам, а на равноправном сравнении стихии природы и стихии человеческих чувств. При таком понимании природы граница между ней и человеком всегда подвижна. Природа раскрывается через человека, а человек через природу.
Весна – это еще и любовь, любовь – это еще и весна:
«Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Огнем весны возрождено».
Это сравнение любви и весны еще уменьшается в русле традиционных романтических сопоставлений с природой, когда на первом месте человеческие чувства, а сама природа здесь присутствует как повод для сравнения. Мы не можем видеть, как «зерно огнем весны возрождено»; а если и увидим, это уведет нас от конкретного лирического образа.
Для Пушкина такое растворение реальной природы во внутреннем мире человека не характерно. В его сравнениях природа не теряет свою пластичность и зримость. В этом его коренное отличие от романтиков. Здесь возрождение античной телесности мира на новом уровне.
Весна возникает в конце романа не только как время года, но и как любовь Онегина:
«Дни мчались, в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима...
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок...
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег...»
Весна не просто условное отражение внутреннего мира, она реально зрима, хотя одновременно она и сравнение. То, что происходит в душе Онегина, подобно тому, что происходит в природе. Гердер не смог бы в этом отрывке найти лирическую живопись чувством. Здесь преобладает эпическая живопись действием: играет солнце, тает снег, Онегин несется вдоль Невы в санях. В то же время зримые и осязаемые образы передают незримое движение чувств: весна живит его. «Евгений Онегин» насыщен пластическими пейзажами. Время в них сгущается, становится пространственным, вещественным, как пейзаж на щите Ахилла, когда среди войн, как окно в бесконечность, раскрывается двумерная перспектива идиллической мирной жизни.
Щит Ахилла – это античный космос в миниатюре, дающий представление о вечном возвращении и периодической повторяемости событий:
«И на круге обширном
Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал.
Там представил он землю, представил и небо, и море.
Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,
Все прекрасные звезды, какими венчается небо:
Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,
Арктос, сынами земными еще колесницей зовомый;
Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона
И единый чуждается мыться в волнах Океана...»
Круглая форма щита делает зримым вращение Арктоса, Плеяд, Ориона, и они следуют в пространственной двумерности щита друг за другом.
В романе «Евгений Онегин» круглую форму гомеровского щита заменяет круговорот времен года, который также вмещает в себя плавное шествие светил в равномерном чередовании друг за другом, движение звездного неба пронизывает роман, как и смена времен года. Пушкин на протяжении семи лет писал в романе «Евгений Онегин» картину своей вселенной. Эту картину воспринимаем мы через образ Татьяны Лариной. Ее первый портрет соткан из сияния звезд и рассвета:
«Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на чистом небосклоне
Звезд исчезает хоровод
И тихо край земли светлеет,
И вестник утра ветер веет
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине...
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она».
Роман насыщен движением света. В первой главе это мерцание свечей, фонарей. Затем искусственный свет все чаще уступает место мерцанию звезд, тихому свету луны, сиянию солнца.
Сравним панораму звездного неба перед глазами Татьяны со световой стихией Петербурга.
«Еще снаружи и внутри
Везде мелькают фонари...
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят.
Усеян плошками кругом
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят...»
И вот наступает момент, когда искусственный «веселый» свет бала растворяется в величественном сиянии белой ночи:
«Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы...
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!..
Все было тихо, лишь ночные
Перекликались часовые
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг».
«Лучом Дианы» озарена в романе Татьяна Ларина. Ее перемещение в пространстве часто связано с движением луны по небосводу. Татьяна и луна неразлучны.
«Настанет ночь, луна обходит
Дозором дальний свод небес...
И между тем луна сияла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы...
И все дремало в тишине
При вдохновительной луне...
И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
... И вот она одна.
Все тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет…»
Лунным светом озарено начало письма Татьяны к Онегину и им же оно завершается:
«Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснеет. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина,
Вот утро…»
И вот опять луна – в час гадания.
«Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
... Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,
Она дрожала и бледнела…
Морозна ночь, все небо ясно.
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно.
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит,
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна».
Дрожание руки, трепетное биение человеческого пульса, слитое со вселенной, – удивительная метафора, отражающая единство человека и космоса.
Даже эта далеко не полная световая панорама приводит нас к выводу, что роман «Евгений Онегин» расцвечен не цветом, а светом. Чаще всего цвет в романе – это восход или заход солнца, отблеск свечей или камина, свет луны, мерцанье розовых снегов, звездное небо. Световая палитра романа это серебристое ночное свечение звезд и луны, переходящее в золотой и алый свет камина или солнца. Роман как бы соткан из живого света. Цвет, не связанный с естественным свечением, в нем почтя отсутствует.
Исключение составляет лишь «на красных лапках гусь тяжелый» и «ямщик ... в тулупе, в красном кушачке». Серебристый световой фон романа иногда переходит в золотое мерцание свечей, фонарей, освещенных окон, иногда сгущается до багряного света солнца или камина, но при этом всегда сохраняется его природная естественность.
Свет, пронизывающий роман, создает космический фон событий. Картина природы это одновременно картина вселенной. Причем, свет никогда не бывает статичен. В каждом отдельном случае он выступает как развернутая световая метафора. В лексике XIX века, и в частности в лексике самого Пушкина образ огня и света имеет особое значение. Огонь и свет – символ жизни. Мрак символизировал смерть. Наиболее ярко свет как утверждение вечной жизни природы раскрывается в сцене дуэли Онегина и Ленского.
Уже за день до начала дуэли Пушкин подробнейшим образом описывает смену дня и ночи, и в особенности утро перед дуэлью. Ленский, сверяя время перед роковым выстрелом, «на солнце, на часы смотрел». Онегин перед дуэлью не видит солнца, погруженный в глубокий сон:
«Уже редеют ночи тени
И встречен Веспер петухом;
Онегин спит еще глубоко.
Уж солнце катится высоко...»
Утренняя звезда Венера названа здесь Веспером – звездой вечерней, предвещающей закат жизни Ленского. Сам Ленский тоже обращается к традиционным световым метафорам, говоря о возможной своей гибели:
«Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день,
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень».
А перед этим еще определеннее:
«Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он...»
Смерть Ленского как бы зримо сливается с жизнью природы и ее возрождением.
А путь Татьяны вместе с луной, вместе со всей природой продолжается. И вместе с ней движется вся ее вселенная с журчанием ручьев, жужжанием жука, с извечным мерцанием света: от луны до рыбацкого костра. И вдруг весь этот мир застывает перед уходящим вниз склоном: перед внезапно открывшимся другим миром, миром, который уже знаком читателю, но с которым Татьяна встречается впервые в кабинете Онегина.
«Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на все глядит,
И все ей кажется бесценным,
Все душу томную живит.
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг и под окном
Кровать, покрытая ковром.
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет...
Но поздно. Ветер стал холодны.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою...
И Таня скрыв свое волненье,
Пускается в обратный путь».
Исчезновение Татьяны вместе с луной, освещающей кабинет Онегина, – тоже световая метафора. С уходом Татьяны погружается во мрак мир Онегина.
Мир Онегина пронизан другими ритмами. Он часто живет в полнейшем разладе не только с обществом. Он отсчитывает время по «недремлющему брегету». Природа быстро наскучила его взору. У Татьяны другая система отсчета: биение собственного пульса, смена дня и ночи, чередование времен года.
Бурный и страстный ритм цивилизации, совпадающий с онегинским временем, построен на принципиально ином отношении к жизни. Эпическая природная бесконечность для Онегина вначале просто не существует:
«Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле».
Онегин живет в деревне,»красных летних дней в беспечной неге не считая». Его подлинное время спрятано в глубине его души, спрятано настолько глубоко, что он его пока просто не замечает. Отсюда подчеркнутая стремительность его жизни в Петербурге.
Его стремительное перемещение пронизывает всю первую главу романа:
«Уж темно, в санки он садится.
«Пяди, пади!» – раздался крик…
К Talon помчался...
У нас теперь не то в примете,
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж наш Онегин поскакал...
Вот наш герой подходит к сеням.
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням...»
Помчался, поспешил, стремглав, взлетел... Вот ритм жизни Онегина в романе.
С Татьяной читатель встречается в час тихой ее задумчивости, в неразрывной связи с пейзажем. Онегин влетает в повествование «на почтовых». Отсюда – сдавленность перспективы.
Кабинет Онегина это лишь вместилище вещей:
«Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов...»
Теснота – естественное состояние Онегина. После тесноты театра и кабинета – теснота бала:
«Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум, и теснота.
Бренчат кавалергарда шпоры,
Летают ножки милых дам,
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен».
Таково пространство Онегина в первой главе. Заполненное вещами, нарядами, блюдами, оно кипит, кишит, переливаются, гремит, ревет.
Перед глазами Онегина, как и перед глазами Татьяны, переливается световая стихия, но это не стихия звезд, луны, солнца. Это блеск фонарей, свечей, отсвет камина. Лишь однажды перед его глазами возникает луна, да и то как повод для иронического сравнения, когда он говорит об Ольге:
«Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Мир несовершенен в глаза Онегина до самых его корней. .Онегин не верит ни в совершенство космоса, ни в природу, ни в природу собственных чувств. «Я сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас», – пытается убедить он Татьяну и вместе с тем самого себя.
В книге «Поэзия и правда» Гете писал об отвращении к жизни, которое постигает порой людей мыслящих и самоуглубленных. Причем, это разочарование проявляется прежде всего в отрицании равномерных чередований времен года, дня и ночи, цветения трав. Человек начинает тяготиться периодической повторяемостью природных явлений, которые по Гете и являются подлинной пружиной всей жизни и ее природных процессов (Гете И.В.Поэзия и правда. Из моей жизни. М. , 1969). Это положение Гете можно обобщить и сказать, что человек начинает вообще тяготиться временем, в основе которого всегда лежит периодическая повторяемость событий.
Онегин не чувствует времени, не ценит его, потому что жизнь для него пока пуста, Он не считает ни дней, ни часов, ни лет, хотя повсюду спешит. Отсюда его жажда пространства, «охота к перемене мест». Это чувство доведено до предела в главе путешествия: «Зачем я пулей в грудь не ранен... Зачем не хилый я старик…»
Любовь к Татьяне пробуждает в Онегине обостренное чувство природы. Кончилось существование, когда он не чувствовал ни дня, ни ночи, а время кишело балами и обедами. Кончилось время пустой праздности в деревне, которой Онегин отдавался «нечувствительно». Кончилось пустое и бессмысленное путешествие в никуда, где он мечтал о смерти. Теперь для Онегина «дорог день» и «дорог час».
«Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни...»
Чувство времени становится обостренным:
«Я знаю, век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть в уверен,
Что с вами днем увижусь я».
Здесь выясняется еще один аспект во взаимоотношениях Онегина и Татьяны. Татьяна живет в едином ритме с природой: «Пора пришла – она влюбилась». Онегин почувствовал любовь в возраст «поздний и бесплодный». Это опоздание вызвано еще и тем, что в свое время он стремился обогнать природу:
«Нас пыл сердечный рано мучит.
Очаровательный обман.
Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заране.
Мы узнаем ее в романе.
Мы все узнали, между тем
Не насладились мы ничем –
Природы глас предупреждая,
Мы только счастию вредим…»
Стремление Онегина обогнать природу сказалось в его ответе Татьяне: «Я сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Онегин голосом холодного разума пытается заглушить возникающее в нем чувство и предупредить события, но в конце романа побеждает голос природы, голос любви.
Однако мы вовсе не хотим сказать, что роман «Евгений Онегин» повествует лишь о гармоничном примирении природы и человека. Голос природы звучит только в сердцах героев. Действительность насыщена драматизмом, переходящим в трагедию разбитой судьбы Онегина и Татьяны. Здесь мы вплотную переходим к проблеме трагического в эпическом жанре романа «Евгений Онегин».
Неслучайно именно в этом плане эпическое мировосприятие Пушкина неожиданно стало темой дискуссии на страницах журнала «Вопросы литературы» (1970 № 11 и 1971 № 2). Неожиданно, потому что речь в основном шла о тенденциях в современной поэзии.
Обсуждался призыв В.Кожинова к современным поэтам возродить в своем творчестве «пушкинские начала». Казалось бы, трудно спорить с закономерностью такого призыва. Однако у критика Огнева призыв вызвал резкое возражение и прежде всего потому, что в Пушкине Кожинов видит русскую «духовную Элладу». Между тем, пишет Огнев, о какой Элладе может идти речь, если были виселицы декабристов.
Огневу справедливо возразил А.Ланщиков. Он говорит о цельности античного восприятия, когда, по выражению Гераклита, люди были смертными богами, а боги бессмертными людьми. Далее сквозь эпохи шло отчуждение личности от природы, достигшее кульминации в эпоху капитализма. Воина за цельное миросозерцание, за духовную гармонию между миром и человеком (я подчеркиваю, именно духовную гармонию) никогда не прекращалась в истории и увеличивалась творческими победами. Именно на основе такого целостного, эпического мировосприятия возникали такие произведения, как «Дон Кихот», «Фауст», «Евгений Онегин», «Мертвые души». Эти произведения отражают эпическую цельность мировосприятия на разных витках исторической спирали в самых трагических ситуациях истории. Вот почему только недоразумением могло быть вызвано утверждение А.Туркова в статье «Ясности ради», что поскольку в «Евгении Онегине» Пушкина отражено крепостное право, трагическая судьба няни и разбитое счастье Татьяны, значит не может быть и речи об античной цельности Пушкина: «Античность… Да перечитайте же наконец как следует хотя бы «Румяный критик мой, насмешник толстопузый»..» И не античный юноша предстанет тогда перед нами, а первый бурлак нашей литературы, сам, без подсказок и понуждений впрягшийся в лямку «проклятых» российских вопросов».
В этом споре с обеих сторон чувствуется неточность в понимании целостного, античного мировосприятия. Эта неточность проистекает из того, что гармония, о которой говорят Кожинов и Ланщиков, имеет точное название: эпическое мировосприятие. Само по себе целостное эпическое мировосприятие, когда личность не отделяла себя от природы, не осознавала себя как личность, ушло в безвозвратное прошлое. Другое дело, возрождение целостного видения мира на уровне художественного мышления в разные исторические эпохи.
Возражения Огнева и Туркова основаны на неразличимости художественной и буквальной сути эпического миросозерцания. История полна трагических контрастов, и личность никогда не вернется к целостному античному мировосприятию, поскольку индивид осознал себя как личность и вместе с тем осознал, что он смертен.
Однако Прометей навлек на себя гнев богов тем, что научил людей не бояться смерти. Именно поэтому цельные эпические произведения, где человек предстает в неразрывном единстве с миром, возникали и будут возникать в разные исторические эпохи.
Представления о безмятежности и гармоничности гомеровского эпоса носят явно преувеличенный характер» Это связано с идеализацией античного мира в представлении таких крупных мыслителей, как Лессинг, Гердер, Шеллинг и Гегель.
Школа немецкого объективного идеализма видела в античности то, что хотела бы видеть в будущей истории человечества: полную гармонию между личностью и обществом, между объектом и субъектом.
Вряд ли бесконечный вооруженный спор героев «Илиады» с богами укладывается в такие идиллические рамки. О какой идиллии может идти речь в поединке между Гектором и Ахиллесом? Разве спор греческих военачальников из-за невольницы, ставший завязкой «Илиады», укладывается в рамки «гармонии»?
Тем не менее, эпическая гармония не праздная выдумка, она существовала, но не столько в реальности, сколько в сознании древнего грека. Она существовала в те времена, когда не было никакого эпоса, ибо, по меткому замечанию Горького, «процесс образования «я» аналогичен процессу формирования эпического героя». То есть эпопея появляется вместе с появлением личности, а следовательно именно на развалинах патриархальной гармонии у истоков противоречий, у истоков трагедии.
Эпическая гармония «Илиады», как отмечали и Шеллинг, и Гегель, ведется на нерасторжимости природы и человека. Все действия героев, психологические и физические, и даже действия богов становятся зримыми через сравнения с природными процессами: дождь, гроза, наводнение, ветер и т.д. Шеллинг на примере "Мессиады" Клопштока доказывал несостоятельность попыток создать современный эпос, заменив греческих богов христианскими.
Пушкину, как ученику Руссо, Вольтера и Гольбаха, был близок гомеровский пантеон, где боги еще не успели отделиться от природы и человека.
Томик Гомера, стоявший на лицейской полке Пушкина рядом с Вольтером, нес мироощущение человека, еще не закабаленного ни рабовладельческим, ни феодальным, ни капиталистическим строем» Человека, еще не выделяющего себя из природы и общества, но уже сознающего себя как личность в этом единстве.
Пушкин писал с восторгом, обращаясь к творчеству Дельвига: «Идиллии Дельвига для меня удивительны. Какую силу воображения должно иметь, дабы так совершенно перенестись из XIX столетия в золотой век, и какое необыкновенное ч у т ь е изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отрицательную, чем положительную. которая не допускает ничего напряженного в чувствах; тонкого запутанного в мыслях; лишнего неестественного в описаниях!»
В этих словах Пушкина сосредоточено его отношение к античности. С одной стороны античность – это гармония, идеал, золотой век, утраченный человечеством.. С другой стороны, для Пушкина уже неприемлема такая безоблачность, не допускающая «ничего напряженного в чувствах», «тонкого запутанного в мыслях». Античной гармонии недостаточно для воспроизведения всей глубины и сложности душевного мира современного человека.
В чем заключалась эпическая гармония античных времен? В полном слиянии интересов личности и коллектива.
Три тысячелетия, отделяющие Гомера от Пушкина, были тысячелетиями все большего утверждения человеческой личности, и следовательно тысячелетиями нарастающего трагизма. Чем больше личность осознавала себя, тем глубже открывалась перед ней пропасть социального отчуждения.
Коллектив нуждается в образовании личности, и уже в гомеровском эпосе личность Гектора и личность Одиссея не просто покоряется судьбе, но вступает с ней в хитрую вежливую борьбу.
Эпос всегда включает в себя трагедию, важно, что трагедия в нем всегда имеет выход: в природу, как у Пушкина в «Евгении Онегине», или в образ бесконечного пространства, как у Гоголя в «Мертвых душах». Важно увидеть эту безмерную перспективу, проникнуть в тайну духовной гармонии между миром и человеком, которая существует при любых трагических социальных контрастах эпохи.
Онегин живет в глубоком внутреннем и внешнем разладе не только с природой, но и с окружающим его обществом. По сути дела его образ Татьяны, глубоко трагичен. Эпическое в романе «Евгений Онегин» означает прежде всего трагедию. Как мы уже говорили, трагическое вовсе не снимает эпического. Эпический род включает в себя лирику и драму, а следовательно и трагедию.
Трагедия эпохи, отраженная в «Евгении Онегине», рассмотрена достаточно широко. Наша задача рассмотреть эту трагедию на фоне эпической панорамы природы и выделить в ней элементы, присущие трагическому герою, к какой бы эпохе он не относился.
В этом плане очень интересно проследить, как сходные трагические ситуации преломляются в трагической шекспировской драме и в романе «Евгений Онегин». При этом мы сознательно отвлекаемся от чисто исторических различий, сосредоточивая внимание лишь на тех моментах шекспировском трагедии, которые в известной мере остались актуальными для каждой исторической эпохи.
Мы останавливаем свое внимание на Шекспире по двум причинам.
1. Шекспировская трагедия, повествующая о глубоком разладе личности и общества, лежит у истоков европейского романа. Справедливо пишет об этом А.Я.Эсланек (Эсланек А.Я.Проблема романа как литературного жанра. Диссертация на соискание степени кандидата наук. МГУ, 1958).
2. В период работы над «Евгением Онегиным» Пушкин, как мы это покажем, неоднократно обращался к Шекспиру, как в критике, так и в творчестве. Причем, эти размышления часто затрагивали ключевые проблемы, которые решались и в романе «Евгений Онегин».
Пристальное внимание к героям Байрона заслонило от нас имеющиеся в тексте самого романа сопоставления с другими образами мировой литературы» Между тем, такое сопоставление глубже раскрывает перед читателем мир Онегина и делает более зримыми представления Онегина о вселенной, о вечности и о месте человека в мироздания.
От внимания исследователей в частности ускользнули некоторые аспекты текстуальных заимствований из «Гамлета» в романе «Евгений Онегин». Считалось, что при создании романа Пушкин прежде всего продолжал и развивал байроновскую традицию свободного лирического романа. Между тем в 1825 году во время напряженной работы над «Онегиным» внимание Пушкина было приковано к Шекспиру. В этот период Пушкин писал об «Отелло», «Гамлете», «Мере за меру». В 1829 году – о Ромео и Джульетте».
Из трех пьес Шекспира, названных Пушкиным в 1825 году наше внимание прежде всего привлекает «Гамлет».
Гамлетовская ситуация человека на распутье между двумя эпохами: чувствуется в «Онегине». Вот как определил эту ситуацию Белинский: «Человек уже не удовлетворяется естественным сознанием и простым чувством: он хочет знать; а так как до удовлетворительного знания ему должно перейти через тысячи заблуждений, нужно бороться с самим собою, то он и падает».
Очень важно при этом заключение Белинского о том, что это непреложный закон как для человека, так и для человечества».
«Вывихнутое время» Гамлета и время Онегина, несмотря на разницу эпох, имеют много общего.
«Какой-нибудь молодой человек, покинув родную «старинную» патриархальную среду, отправлялся учиться в университет. Здесь знакомился он с вольнодумными кружками, дружил с учеными студентами, как Гамлет с Горацио, читал такие, например, книги, как «Утопия» Томаса Мора. Вернувшись в свой родной дом, он приходил в ужас от всего окружающего. Мир действительно начинал ему казаться «заросшим плевелами садом». Сам он переживал глубокие страдания: старые верования его были разрушены, а как перейти к претворению в жизнь тех идеалов, которые смутно носились перед ним, он не знал и не мог знать» (В.Г.Белинский).
Нетрудно почувствовать здесь определенное сходство с возвращением Ленского. Гамлет и его Друг Горацио возвратились из Виттенберга, и оба потрясены контрастом между идеалами Возрождения, которые они усвоили, и действительностью.
Ленский тоже возвратился из Германии, но только из Геттингена. Виттенбергский университет был основан в 1502 году. Между ним и Геттингенским – пропасть времени глубиной в три столетия, а проблема все та же: как примирить идеалы жизнью
Мотив «чужестранца в своем отечестве» позволяет показать все несовершенство мира как бы со стороны. В русской литературе таким «чужестранцем» еще до Ленского был Чацкий, который ,как и Гамлет, был признан безумным за свою непримиримость к царящему вокруг злу. А вздорные обвинения в адрес Чацкого перекликаются с обвинениями в адрес Онегина. О Чацком: «Он карбонарий!» Об Онегине: «Он фармазон». Онегин «пьет одно стаканом красное вино», а Чацкий – «стаканами, да пребольшими» и «бочками сороковыми».
В образе Онегина тема безумия звучит приглушенней, чем в образах Гамлета и Чацкого, но обвинение вложено опять в уста светской черни».
Полоний спрашивает Гамлета: «Что вы читаете, милорд?»
Гамлет. «Слова, слова, слова».
Для Онегина тоже слишком ясна пустота слов и понятий, прикрывающих пустоту жизни:
«...Думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права
Одни условные слова».
Эти строки сохранились в черновиках и, вероятно, не вошли в издание по цензурным соображениям. Нельзя было открыто в печати подвергать осмеянию слова «добро, законы, любовь к отечеству» в эпоху господства ложного казенного патриотизма. У Шекспира гамлетовский скептицизм распространяется на все общество, но не затрагивает природу. В душе Ленского и Татьяны, есть твердая уверенность в правоте сил природы, управляющих человеком. У Онегина нет и этого последнего прибежища. Он не верит даже себе.
Объяснение Онегина с Татьяной и Гамлета с Офелией поражают сходством аргументации:
Гамлет:
«Иди в монастырь. Зачем тебе рожать грешников? Я достаточно честен. Однако я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать меня не родила. Я очень горд, мстителем, тщеславен. В моем распоряжении больше преступлений, чем мыслей, чтобы их обдумать, воображения, чтобы их исполнить... Мы все отъявленные подлецы. Никому из нас не верь».
Онегин:
«Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя...
Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже.
Где скучный муж ей цену зная,
(Судьбу однако ж проклиная)
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно ревнив?
Таков я ...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».
Здесь общее неверие в человеческую натуру, ссылка на непостоянство людей, как на вечны! закон природы, сомнение в природных возможностях человека.
Офелия не возражает на слова Гамлета, как и Татьяна ни слова не отвечает на проповедь Онегина. Возражением здесь являются не олова: любовь Офелии и любовь Татьяны – лучшее опровержение аргументов Гамлета и Онегина.
В «Евгении Онегине» природа выступает как положительное начало в человеческой жизни. Образ природы неотделим от образа Татьяны. В «Гамлете» положительное природное начало сконцентрировано в образе Офелии. Погибая, Офелия как бы возвращается в природу, растворяется в ней:
«Над речкой ива свесила седую
Листву в поток. Сюда она пришла
Гирлянды плесть из лютика, крапивы
Купав…
Ей травами увить хотелось иву,
Взялась за сук, а он и подломись,
И, как была, с копной цветных трофеев
Она в поток обрушилась. Сперва
Ее держало платье, раздуваясь,
И, как русалку, поверху несло.
Ома из старых песен что-то пела,
Как бы не ведая своей беды...»
Гамлет не хочет поверить Офелии, Онегин не верит Татьяне. Голос человеческой натуры, говорящий о возможности счастья, кажется им неубедительным, потому что вокруг царит зло.
«Бернардо. Прошедшей ночью, когда вон та самая звезда, которая к западу от полярной, продвинулась по своему пути и освещала часть небес, где она сейчас горит, Марцелл и я, когда колокол бил час...
Входит П р и з р а к».
В «Евгении Онегине» движение звездного неба пронизывает весь роман. Но для Татьяны в этом нет ничего зловещего.
Трудно представить Онегина, подобно Гамлету терзающимся над вопросом о загробной жизни. Этот вопрос был отнюдь не чужд современникам Пушкина. Именно Ленский, в чьи уста Пушкин вложил реминисценцию из «Гамлета»,.поднимает перед Онегиным этот вопрос:
«Меж ими все рождало споры,
Все к размышлений влекло…
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду
Все подвергалось их суду».
Осознание своего страха перед неведомой загробной жизнью не позволяет Гамлету умереть, забыться, и это же сознание толкает его к действительной жизни.
В совершенно противоположной ситуации находится Онегин. Для него не существует страх загробной жизни, но, как и Гамлет, он тяготится жизнью земной и рассуждает о возможности самоубийства. Сравним эти два монолога.
Онегин:
«Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма?»
Гамлет:
«Умереть – уснуть – не более того. И подумать только, что этим сном закончится боль сердца и тысяча жизненных ударов, являющихся уделом плоти, – ведь это конец, которого можно от всей души пожелать!»
Размышление Онегина о тульском заседателе перекликается с монологом Гамлета лишь по тематике. Монолог же Ленского над могилой Ларина прямо построен на реминисценциях монолога Гамлета над черепом шута.
Гамлет:
«Увы, бедный Йорик! Я знал его, Горацио. Этот малый был бесконечно изобретателен в шутках, он обладал превосходной фантазией. Он носил меня на спине тысячу раз».
Ленский:
«Poor Yorik!» молвил он уныло
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!»
Не будет натяжкой предположить, что от этого монолога тянется ниточка к внутреннему монологу Онегина о тульском заседателе, ведь тема жизни и смерти впервые возникает именно после слов Ленского с цитатой из Шекспира:
«Увы! на жизненных браздах
Мгновенном жатвой поколенья,
По тайном воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им во след идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас».
О том, что Пушкин совершенно сознательно направляет мысль читателя у иронии над загробной метафизикой, говорит его примечание к словам Ленского: «”Бедный Йорик!" – восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна).
Ссылаясь на Стерна, поэт настраивает читателя на иронический лед, ведь у Стерна эпизод с Йориком обыгрывается именно в таком плане: герой Стерна ведет свой род по прямой линий от знаменитого шута:
«...Род этот датского происхождения и переселился в Англию еще в царствовании датского короля Горвендила, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность. Что это была за должность, грамота ничего не говорит; она только прибавляет, что уже лет двести, как ее за ненадобностью упразднили...
Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, – и что Йорик из Гамлета... несомненно является этим самым Йориком».
Гамлетом может оказаться весьма прозаический современник, вздыхающий над параличом тульского заседателя.
Виттенбергский студент Гамлет и геттингеский студент Ленский прикованы не только к своему времени. Каждый век изобретает свою метафизику.
Гамлет много думает о загробном бытии:
«Кто бы согласился
Кряхтя под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться».
Страх загробной жизни не мучил Онегина, и он, хотя и с иронией над собой, сожалеет, что остался жив: «Зачем я пулей в грудь не ранен?»
Ленский в отличие от Онегина много рассуждает о загробной жизни, об особом предопределении человека:
«Нет нужды: прав судьбы закон...
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный...»
Эта сторона гамлетовского характера чужда Онегину настолько, насколько близка она Ленскому.
Ленский напоминает импульсивного Гамлета, со шпагой в руках бросающегося на шорох и убивающего Полония вместо короля.
Онегин больше напоминает рефлектирующего Гамлета. Он слишком трезво видит действительность и поэтому больше задумывается о мировых вопросах и меньше действует.
Если рассматривать образы «Онегина» в сопоставлении с «Гамлетом», то образ шекспировского героя предстанет как бы в расщепленной виде: гамлетовская метафизика, неприемлемая для Пушкина, сосредоточилась в образе Ленского. Может быть, поэтому именно в его уста вложена цитата из «Гамлета» с ироническим примечанием Пушкина. Но в Гамлете-Ленском есть и то, что близко Пушкину: непримиримость к несовершенству мира, проблема совершенного человека в несовершенном мире, историческая обреченность открытого действия.
Здесь-то и возникает перед нами извечная проблема, о которой писал И.С.Тургенев в статье «Гамлет и Дон Кихот».
Гамлет много знает, но не может перейти к действию именно потому, что знает обреченность действия в рамках своей жизни.
Дон Кихот многого не знает, но готов тотчас же бороться где угодно и с кем угодно, даже с ветряными мельницами, за осуществление пусть неосуществимого идеала. Все герои мировой литературы, говорит Тургенев, или Гамлеты. или Дон Кихоты в разных соотношениях и пропорциях.
Многое из сказанного Тургеневым применимо к характерам героев «Евгения Онегина». Дон Кихот верит в осуществление своего идеала сейчас, немедленно, как Татьяна, как Ленский.
Гамлетовский и донкихотовский типы на самом деле не так уж противоположны. дни же только тяготеют друг к другу, но подчас совмещаются в одном лице.
Онегин тянется к Ленскому, потому, что в его натуре много скрытого донкихотства. Ирония же заключается в том, что Гамлет-Онегин убивает Гамлета-Ленского. Гамлет, устремляющий свой взор в потусторонний мир, ищущий надмирной справедливости, погибает от руки Гамлета XIX века, свободного от метафизики, отрезвленного столетиями.
Разумеется, это сопоставление не надо понимать буквально. Оно правомерно лишь при ретроспективном взгляде на образ Онегина в сопоставлении с образами Шекспира.
Для Гамлета рамки человеческой жизни практически бесконечны. Его пугают сны загробного мира не меньше, чем Татьяну пугает ее вещий сок. Явление призрака для Гамлета факт документальный. Последующая проверка, которую Гамлет осуществляет («мышеловка»), нужна лишь для того, чтобы удостовериться, что призрак не обманул. Само же существование загробного мира сомнению не подвергается. Об этом и свидетельствует и решение Гамлета не убивать короля во время молитвы, чтобы его душа не предстала в потустороннем мире очищенной.
Мир Гамлета бесконечен. Он несовершенен, он полон зла, но время действия здесь – вся вечность.
Именно на фоне этой вечности, где есть время для сомнений и размышлений, раскрывается та сторона характера Гамлета, которая была впоследствии названа «гамлетизмом». Здесь рефлексия, нежелание действовать, сомнение в целесообразности действия отдельного человека перед лицом мировой бесконечности.
Однако Гамлет живет не только по часам вечности. Ведь наряду с этим есть уверенность в необходимости немедленного действия здесь, на земле, в пределах одной человеческой жизни.
Между Онегиным и Гамлетом существует определенное сходство. Оба героя живут в переломные моменты своих эпох. «Век вывихнут», – говорит Гамлет и не может успокоиться, пока не выполнит свою функцию костоправа. Гамлету в какой-то мере легче, чем Онегину: он верит, что существует высшая справедливость, и рассматривает зло как отклонение, как «вывих».
Что же принципиально новое принес Гамлет-Онегин в мировую литературу? Пессимизм Гамлета двоякого свойства: он идет от несовершенства земной жизни, но он же продиктован страхом потустороннего возмездия. Пушкин впервые показал свободного Гамлета, сознающего себя не перед лицом смерти, а перед лицом жизни. Гамлет-метафизик откристаллизовался в Ленском, его гамлетизм подсвечен авторской иронией.
Гамлетизм Онегина – это самое привлекательное и самое отталкивающее в его душе. Гамлетовская жажда совершенства и нежелание примириться с его отсутствием и гамлетовское неверие в человеческую природу, идущее от этой же жажды, сконцентрировалось в образе Онегина.
Глубина гамлетовских вопросов открыта ему, но впервые вопросы прозвучали не в сторону инобытия, а перед лицом жизни.
Гамлет чисто рационально решает «быть» и идет на гибель. Онегин, не смотря на решение «не быть», вступает в борьбу за свою любовь и жизнь.
Для Гамлета бытие должно иметь разумное оправдание. Для Онегина бытие оказывается выше и шире разума. «Быть» произносит не Онегин, а сама жизнь, восстающая в нем. Бесконечность бытия торжествует над любой рациональной формулой в характерах героев, придавая им эпическую открытость и бесконечность. Эта открытость характера главного героя совпадает с открытостью всей композиции романа, которая также отражает эпическую бесконечность мира.
Трагическое мироощущение Онегина не противоречит эпичности этого образа, поскольку трагизм есть подлинное и неотъемлемое свойство «современной эпопеи» – романа.
Таким образом, несмотря на драматизм, порой переходящий в подлинную трагичность, роман «Евгений Онегин» еще остается эпопеей лирико-драматической. Трагическая эпопея возникла позднее, в лермонтовскую эпоху.
БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
(см. слово «всё»)
я хожу каждый вечер по дну Неглинки
именуемой Александровский сад
здесь когда-то ходил композитор Глинка
и даже сам Александр
Александр I Александр II Александр III
все Александры все императоры
вызывали у подданных страх и трепет
шествуя туда и потом обратно
подчиняясь заведенному ритму
шли императоры похожие на букву А
солдаты маршировали в рифму
подчиняясь Пушкину как слова
слово «государь» слово «отечество»
слово «держава» слово «***ня»
Александры последнее словотворчество
заменили словами «отечественная война»
каждое слово пророненное Пушкиным
тотчас маршировало и строилось в ряд
«Пушкин нужен нам. Нам нужен Пушкин» –
сказал Карамзин 25 декабря
тотчас привезли Пушкина
а позднее пушки
Пушкин сочинял стихи пел частушки
Николай молвил «нам нужен Пушкин»
«Пушкин пушкин пушкин» –
палили пушки
в мерзлую глыбу впаялась картечь с кишками
кишками кишел сугроб
картечь отрикошетила в Пушкина
Пушкин лег в застекленный гроб
«спи спокойно дорогой товарищ»
молвил Жуковский
и поцеловал друга в лоб
Пушкин промолвил:
«гусь свинье не товарищ
человек человеку друг товарищ и сноб»
Жуковский сказал:
«он смертельно болен
жените его на моей невесте»
император был весьма недоволен
и велел всех похоронить в одном месте
Карамзин плакал:
«Бедная Лиза
бедная Лида»
Николай скомандовал:
«К ноге!»
Пушкина хоронили три инвалида
все на одной ноге
как три форкиады с одним глазом
на всех одна деревяшка
Пушкин встал из гроба как Лазарь
дернул демократической ляжкой
– я не могу смотреть как он ходит передо мной
подергивая демократическими ляжками –
вымолвил Лев Толстой
– каждому инвалиду по деревяшке –
сказал Тургенев святой
инвалиды скулили
– дяденька дай копейку –
и давай Тургенева обнимать
тут вошел одноногий капитан Копейкин
– ямбом ямбом ямбом
ямб вашу мать –
инвалиды в строю на одной ноге
деревяшка на плече как ружье
смотри картину художника Ге
«Пилат и жнивьё»
у Пилата тяжелая служба
но совесть его чиста
на картине Пилат пилой «Дружба»
распиливает Христа для креста
русские инвалиды на одной ноге
день и ночь сторожат пещеру
в пещере Пушкин – Джугашвили – Ульянов-Ленин
в небе луна – всегда на ущербе
однажды вождей подернула плесень
образец послали микробиологам
микробиологи ответили: «если
жечь, то в огне и долго…»
прости мне Пушкин суровый слог
совсем не сказочные были
сварили раствор из восьми кислот
и вождей отмыли
вожди сказали: «Пушкин наше все
но Некрасов нам ближе» –
смотри миниатюру Басё
«Пушкин встает на лыжи»
на картине одна лыжня уходящая вдаль
Пушкин на одной ноге в одной лыже
об этом писал Владимир Даль
но Ожегов нам ближе
см. на слово Басё и на слово Пушкин
а также на слова петух и слово курица
курица – самка петуха
петух – самец курицы
Басё японский Пушкин
Пушкин – японский Басё
Всё см. Пушкин
Пушкин см. Всё
17-18/VII 2002
Свидетельство о публикации №108061401227
Буду к ним возвращаться!
Татьяна
Татьяна Кисс 04.08.2017 13:45 • Заявить о нарушении