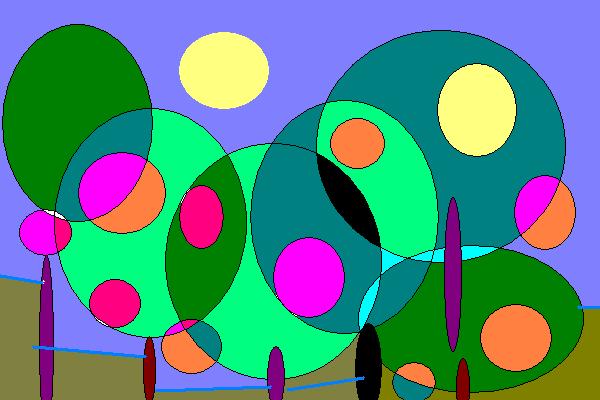Время минор
Халу крошит древний старик – слышит душой памяти крик.
Каверны слов выжгли слова, кожный покров срезав со лба.
Прошлых морщин там не найти: совесть скупа, сердце болит…
Капает воск в коконы лет. Старец скорбит – времени нет!
Сквозь стены Храма выйдя в небеса, она прошла сквозь вещие иконы,
творящие пред Богом чудеса, оставив за спиной старух поклоны.
И растворилась в вязи облаков, и вырвалась за грани мирозданья,
и оземь розмариновый альков разбил её вчерашние желанья.
Не стало вдруг ни ижицы, ни книг, — ни музыки молитв, ни воздаяний,
но опустел её домашний скит и ткань небес прожёг венец желаний.
И захлебнулись в страсти небеса, и выплеснули радугу истоков
всего того, что слышит голоса нездешних мест, волшебных биотоков.
Я видел, как парила над землёй язычница из Храма в час прощанья
разбитый розмариновый альков впитала твердь, а небо – расстоянье…
Теперь их нет – ни тверди, ни дорог. Остались только женщина и Бог…
Прах превращают в алмазы – новость от гробовщиков!
Впредь не страшны метастазы: канут во веки веков.
Умер, но не испарился, а ограненный вполне,
камушком вдруг заискрился ярким, при полной луне.
И без ущерба и боли тысячи лет пережил,
и засверкал на ладони тех, кто еще не прожил.
Превоплотился в оракул, но не вещая, сгорел –
в лазерном бластере канул предотвращать беспредел.
Чужие кошки, как чужие люди – приходит безответная пора,
когда ни слов, ни дней уже не будет, в которых стыло прошлое вчера.
Чужие псы – безродные собаки. Во фраке осень бродит по дворам –
петлиц волшебных жёлто-красных маки тоскуют по утерянным мирам.
Чужие окна, как чужие судьбы – за окнами пылает свет огней.
Чужие рядом праздники и будни чужих, до встречи в будущем, людей.
Отсутствует один сегмент в пылу альтернатив –
во мне возрос трудяга-мент и нечто запретил.
А это "нечто" всем назло во мне играло суть,
но я писал про НЛОи так сумел вспугнуть
Смешного, в общем-то, себя ранимого легко,
что вдруг забыл свой клич: "Огня!" и молча лёг на дно.
Где все такие же лежат – сплошь в коконах потерь.
У них есть чуточку деньжат, но счастью их не верь!
Живут без рифмы для души в пустой заведомо глуши.
Летности кончились, начались летья – так наступило иное столетье…
Мимолётности прошлых столетий – в новом веке экстракт мимолетий…
Мажоры пьют застольный шоколад и рвут мальчонки искренностью душу.
В ушах гремит сто тысяч канонад – в них сочный мат и светские баклуши.
Девчушка назидает пацану:;– Ты зол и пьян, и с бодуна к тому же…
А он – в ответ: – Обидно за страну! Не ты ль меня сама звала на ужин?
А банки прогорают в пух и прах, а баксы курс теряют понемножку,
а мы живём в умат и на бровях, жуём себе селёдку и картошку…
Мажоров бьют, а мальчики в душе готовы разорвать на части Лету,
в которой им досталось неглиже жить беспортошно, зная Альфабету…
…свою стезю, чужие холода, израненные годы и столетья…
Вода из слов – безликая вода. В ней умолкают стоны мимолетья.
Караванщик уставшим верблюдам запретил отдыхать на песке.
Он не знал, отчего и откуда эта истина билась в виске…
На осколочном вырванном месте вызревал запретительный план:
певчих птиц сохранить, чтобы вместе, с ними вместе шагал караван.
Этих птиц в золочёные клети усадили в Герате купцы.
Вмиг песков белогривые сети расплескались в пустыни концы.
Полюбовно и птицам, и сетям не ужиться в безводном краю –
эти птицы умрут на рассвете, на заре их услышат в раю.
Пейте с рук по глотку, по глоточку разноцветных убранств и цветов,
рано ставить вам в пении точку – караван ваш ведёт птицелов!
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АКЦИИ "КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ"
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДОМЕ АКТЁРА В МАРТЕ 2002 Г.
Караимская кинаса – люди дома, люди пьют.
Отпочковывают расу тех, кто бреднями живут.
Прапраправнуки поэта член вселенский, торопясь,
между строф вонзают где-то сотню раз!
Гласных вычурный подстрочник – на согласные – плевать!
Прожигают жизнь до точки: "Твою мать!"
Я танцую семь да сорок – лет прошедших маргинал.
Мне уже давно за сорок. Кончен бал!
Начинаем всё сначала – люди дома, люди пьют.
Синагога обветшала там и тут.
И при чем душ подстрочник? Ни при чем девятый вал –
дописали жизнь до точки и аврал!
Мир подрос без сожаленья и восстал в свой полный рост –
нестудийное прозренье, маргинальный холокост.
По ранжиру соучастья всяк с дипломом – лепота!
Раздаётся дурням счастье – от винта!
На хрупком паланкине паутин качаются прошедшие века.
Жена рисует золотом трамплин в грядущее… и таинств письмена.
За окнами давно двадцатый векотпел своё и сел на бигуди.
А новый век, приличный взяв разбег, клонирует превратности судьбы.
Под жестким паланкином спешных дел страдают Арлекины и Пьеро. –
Вчера ещё оставшись не удел, они вдвоём макают в тушь перо.
А на обоях рыжий вязкий след того, что в дом направила молва.
Жена рисует веско мир без бед за гранями разбитого стекла.
У марта норов выболтаться в лужах, намяв зиме обрыхлившей бока,
а старый лабух, пьяница к тому же, рисует на асфальте облака.
Наяривает лихо на гармошке окрошку из сюит и увертюр,
и лопает печеную окрошку, и предлагает дамам "от кутюр".
И вальсы перемеживая с блюзом, он плошку ставит около СИЗО.
Его житуха ходит вечным юзом: любовь и горечь в красках – От и До...
Восьмое марта. Вечер, дождь и ветер, "базар фильтруют" жаркие деньки,
которых много есть на белом свете, но пить сегодня вправе мужики...
За милых дам вполне, не понарошку, за дивный мир двух ИКСовых персон –
наяривает лабух на гармошке и целый мир орет ему: "Гарсон,
играй, бродяга, пьяница и парий, наяривай, сегодня, в женский день.
Тебе подал бы нынче и царь Дарий, воскресни он – сутяга, старый пень.
И свой гарем бы выпустил на волю и сам бы сел в подземный переход
"Амурский вальс" слабал бы на клаксоне, поскольку нынче Киев – Ба-би-лоН!"
Обещается новое вече – не собраться, а просто сойтись
погуторить по-человечьи, как обычно, привычно за жизнь.
Приглашаются страннички скоро просидеть заседаньице зря,
чтобы выслушать всех до упора под оплатные таксой: "Уря!"
А затем заелозить донельзя бутафорные сказки во лжи,
и оставить свой вычурный вензель в книге отзывов: "Бабки – бакши!"
Но в сердцах приписать на заборе целой своре наперерез:
"Правят нами по-прежнему воры, пуще Славы…КПСС!"
Ну, а Слава сей выбит и выжат, и ему наплевать на базар.
Он пахан, для которого ближе реконструкция лагерных нар.
Собака лакает кефир молочарни из лужи –
одной на двоих, на троих, на сто тысяч собак.
Ну, ладно, вода –;и с разжиженной грязью к тому же.
Но что в том плохого? Скажите, что в этом не так?
Девчушки-пижоны спешат в кабаки грошовые,
мальчишки на чай подают грациозно легко,
гоняют чаи, наплевав на учебные были
о том, что кабак – это лет надувное древко.
Их фенечки вязнут в неоновом ритме полудня.
Собаки икают, – осенний их жмёт неуют,
а рядом барыги, продравшие зенки под утро,
сорвавшие куш, до полудня водчоночку пьют…
Буфетчица Маня несёт на подносе пирожных,
буфетчица Клава несёт на подносе икру…
Чуть фенечки прочь –;и закон до утра непреложный –
гунявая ночь разрывает колготок канву…
И только мальчонки упорно не требую сдачи –
они за девчонок упорно гоняют чаи,
и только собаки лениво бредут на удачу
по контуру лужи в облыжные, серые дни…
Подайте миру чудаков по имени и отчеству.
Беда в стране без простаков по древнему пророчеству…
Беда в стране без чудаков, без их шального теста:
ведь кто ещё сказать готов, что дурь – судьбы невеста?
И кто ещё в который день, в который год, однако,
сидит на жопе, как Пномпень, не лая, как собака?
Дожить до чуда и увидеть свет – зелёный, не кровавый, не ранимый…
Так под ногами вязнет утром снег в предгорьях прикарпатской Украины.
Я здесь служил, не зная слова “Джа”, которым открестился мир вчерашний
под траверсом холодного дождя, в котором гибли травести изящно.
По лучику, завёрнутому в “Джа”, зажатому в ажурной бандероли,
я рвался за всегдашнее “Нельзя”, и тем сбивал с души своей мозоли.
Я пережил земное ремесло писать и жить мечтой не на бумаге,
и выскользнул за “Джа” смертям назло, влекомый тем, что чтут небес бродяги.
Дожить до “Джа” и пережить – Джулу, джихад, войну, скорлупы черносева,
войти сквозь плевела в свою страну, восстав зерном отборного посева.
Семь миллионов вольных украинцев из 48 млн. зарегистрированных во время первой всеукраинской переписи 2001 г. ныне пребывают заграницей: в остербайтерах и проститутках, гувернантках и поденных рабочих…
(из украинских газет)
Банкомет с отвислым брюхом,а под ним сидит семья –
мать, старуха-повитуха, цыганчата – без копья…
Подле – стражник с автоматом греков вольных дом блюдёт,
подле – пьяница с нахрапом на проезжий путь блюёт.
Бенефис цыганки юной: "Ой, Маричка, чи-чи…" Стоп!
Нет прохожих – голос струнно оборвался и умолк.
Вновь прохожие… "чичери…", разметались кудри, влёт
две копейки полетели. Нынче бедствует народ.
Рыже выкрашена сладко шоколадная мулатка:
мама рядом моет пол, папа в Замбии, козёл!
Занесло его транзитом к маме на ночь паразита.
Вязнут ночи на печи, в душах стынут кирпичи…
Ой, Маричка, где же взять всем им денежку подать –
украинцам всех мастей из голодных областей.
Эй, амбасада от греков, брось нам драхму через реку,
брось нам денег миллион, видишь, нищих батальон!
ЛЕГЕНДА О ДРЕВОЛОВАХ
1.
Календарь вчерашних судеб человечеству не впрок –
тело вынесут и будет. Кто помянет? Время? Бог??
Во вчерашней круговерти кто отыщет новь судьбы
за границей прошлой смерти, там, где жгут календари?
Календарь вчерашних судеб, перехлёст прошедших дат:
много зла от спешных судий – “Тот, кто пожил, виноват!”
Тоже мне, скажу, Пилаты: как один – гробовщики.
Снимут мерку в две лопаты да задраят труп в холсты…
Белый саван или серый, пусть бы даже золотой:
жил да не был, вот уж небыль, вот и всё тут… Боже мой!
Календарь вчерашних измов нынче рвут в который раз:
тут на части рвут Отчизну, там впадают в зла экстаз…
Позабылось да завралось, да дорвалось вороньё
до того, что в нас осталось… Но живые – за своё!
Им нельзя без предрасудов от рожденья до чертог,
тех, в которых сон-приблуда навсегда уже, милок.
Календарь… А в нём устало пересортица побед,
много шума, счастья мало, много горечи и бед.
2.
Ночь планету не продвинет в прошлых дней веретено.
Облик прошлого застынет и… скомкается в хламьё.
Мудрецы прильнут к рассвету – кто с молитвами, кто без,
чтобы вновь легенду эту возродить, как анапест.
Чтоб воздержанно и трудно по крупицам вещих снов
сочленить легенду путно из порушенных основ.
В той легенде жило чудо, кто сказал бы навь иль явь,
будто кто-то неоткуда тряс столетий календарь.
Скопы тряс тысячелетий, пересудов перезвон,
страшный отзвук лихолетий, дивный отблеск злат'икон.
На одной, как в откровенье, древоловы режут пласт,
а под пластом тем – коренье, волнорезы чёрных ласт.
Неотсеченые резко от планеты целиком,
штыковых лопат обрезка режет землю прямиком.
3.
Ночь планету не продвинет подле Дерева мечты.
До утра оно раскинет в небо ветви, как персты.
А при отблесках рассвета раз в столетие на нём
вызревает Птица света: полусказка, полусон.
Полу-веда, полу-ласка, полу-радость, полустык…
В ней одной – миров развязка! Врать я, братцы, не привык.
Если корни древа с ночи ты отроешь до утра,
Птица света весть пророчью возвестит тебе сама!
Но и дерево при этом превратится в птицу Флай,
и она умчит с рассветом в полу-сказку, полу-Рай.
Но оставит древоловам злата кованый сундук,
и красавиц, и иного всяко разного на дух.
Если только до рассвета корни дерева они
откопают в день завета, переждав столетья дни.
Ну, а если не отроют, втянет в корни их земля,
Здесь же заживо зароют их на веки егеря!
Из земли они восстанут в страшном облике своём,
А затем навеки канут в преисподни жуткий ров.
В чёрных ластах стихнут звуки на грядущие сто лет,
и умрут тогда от муки древоловы… чуть рассвет...
...их застанет за работой, и истает птица Флай,
тихо, скорбно, позолотой не блеснув ловцам… “Гуд бай!”
И корнями станут души, и иссохнут навсегда –
то ли счастье их присушит, то ли, собственно, беда.
4.
Как не кинь, а всем при этом нет ни выгоды, ни слёз.
Просто ловят до рассвета древоловы образ грёз.
Всем заранее понятно сколь нелеп и страшен труд…
Но художнице приятно – внуки замысел поймут!
И не станут тратить годы на искание чудес,
ибо там, где нет свободы, там безумия прогресс.
Роют счастье древоловы раз в столетие, а мы
жизнь сминаем бестолково подле Дерева судьбы…
У поэзии – кодекс бессилия, У поэтов – обилие грёз,
от бандитского изобилия угасают венки тубероз.
Надрываются сыто фартовые, прикрывая поэзии рты…
Эх, денёчки, в их души!, хреновые, эх, поэты, с виденьем… сумы!
Чаи в палаточных мирках гоняют под “первак”,
петард китайских глухари кудахчут: “Бах!”, “Бах!”, “Бах!”
От лотереи “Патриот” разит идиотизмом –
трефово-бубенный фокстрот во имя… ран Отчизны.
Здесь сельский люд всеядно зол на свой камзол столичный –
согнала жизнь их с дальних сёл на праздник обезличный.
Им нелегко ворваться в щель размеренного ритма
интеллигентных “прошлостей”… по зову алгоритма.
Суть в нём проста: круши и знай, что Киев – сёл стеченье,
что камни примут злобный лай – столицы оскверненье…
Встречи года уже без вина – молодильные яблоки в воду,
и не бродит бутыль у окна – задохнулись сока не в породу.
Не в порядке вещей суета – закрома поприжались и ссохлись.
Не зима, а одна маята, и в бродильне все бочки рассохлись.
Мы не пьём, не тушуясь ничуть, пройден путь “гастрономов” и пьяниц.
Нам бы сладко и тих вздремнуть. Ждёт нас сказок подушечный ранец…
Ангелу отбили горн ледяного братства.
На Крещатике – затор, на Майдане – ****ство!
В фотомыльницах – оскал мрачного местечка.
Архитектор сплоховал, вытворил калечку…
Эх, юродивых страна с безобразным плацом:
трёх Историй бахрома – в чём здесь разбираться?
Завтра ангелы уснут в теплотворной речке.
И устанет пришлый люд покупать “сердечки”.
И потянется народ говорить о сути…
Там, где в душах недород, быть житейской смуте.
И потянутся крушить зло средневековье,
те, кому случилось брить веку изголовье…
Полусытые нищие чинно расползаются по эстакадам –
метропорт скуп на дохи с овчиной – просят те, кому истинно надо.
Потому что, во-первых, январь, во-вторых же, и день в нём первый.
Ремесла незлобивый звонарь напрягает усердностью нервы.
Наполняется день естеством – брось копеечку, кому надо,
ссыпь тому, для кого ремесло – это первая в жизни награда.
Растворяют в праздниках те, кто легко преуспел в вечных буднях, –
убежденные в правоте: “Грех просить с бодуна до полудня!”
Грех настаивать на своём перед ликами сытых улиц,
прошептав про себя: “Не помрём!”, если кукиш покажет пуриц.
Ну что там? К станции Чиота прибудет поезд в точный час.
Статистов выберет работа по расписанью, без прикрас.
Минут рачительные крохи – всё так же мяты сюртуки,
всё так же женщинки-дурёхи строчат восторги в дневники.
Два братца выдумали чудо – Люмьеры, знаете ли, вот…
Фонарь волшебный абсолютом отснял денька былого лот.
Аукцион киноэкрана с забытым вальсом в унисон –
иных времён живая рана: чуть полусказка, полусон…
Киноэкран теряет краски, и вот уже телеэкран,
дисплей компьютера, спецмаски, Шер мон Мари… Шарманок клан…
Дикты – клееные фанеры, были ещё пресс-картон и шпон,
и другие мебельные химеры, а затем камни в почках разбивал виброфон…
Сон пилигрима – святы’ колготки – лечат без водки, которой не пьёт
жена моя – Бемби… Хмельные повадки Бемби задрали: “Всяк пьющий – урод!"
Так и живём, между диктой над нами, водку хлебает сосед за спиной.
Вязкие глупости – интер-цунами – скалятся тупо над нашей семьёй.
Монетки-Инь, Монетки-Янь я подбираю на асфальте –
заламинирована в смальте продажных истин пектораль.
Купить на них… ну, разве, – Чудо! Но отовсюду вдруг (откуда?)
Чудес окрестных видна длань… Одна, вторая… Сотня, две…
И не монетки в голове… Уже кружит главоверченье,
и вдохновенье, озаренье… Инь-Янь, Инь-Янь – тебе и мне…
Анонс: "Прощён!", анонс: "Наказан!" – слепой сюжет судьбой подсказан,
(кого и как не выбирай – тебе вердикт: "Дорога в Рай!"
Простив, наказывать нелепо, но у судьбы хватило крепа
оббить гробки вчерашних дел, и тех, которых не успел
ты совершить в земной юдоли, (не совершишь ты новых боле’),
но о грядущем не жалей… Ты жил? И ладно. – Всех-то дел!
За упокой своей души стихов печальных не пиши!
Скажи: "Аминь!" – да будет так! И вновь спеши гонять собак,
вязать вязанки новых дров, и жить, как прежде… Будь здоров!
Пишут ангелы спичками сечку колдовского начала:
прожигают в наитии свечку мирового мерцала…
Отпылавшая в миг, в одночасье – серный мякиш на хрупком древке,
спичка съёжилась без соучастья червячком в комельке.
Пишут ангелы сказку сначала – заголяют древко,
забывая, как спичка мерцала невозможно легко.
Серный камушек на бомбаньерке, "барный" столбик хлыстом ;
запылала огнём этажерка с наживным барахлом.
Пишут ангелы строфику Леты, вычитая должок:
для одних, дуэлянтов, дуплетом!, для других - порошок…
Чтоб давить тараканно им будни и премного стареть.
Бродят по небу сирые блудни, им нельзя умереть!
Пишут ангелы… Пишут, умеют! Спички – чирк и в огне.
И пылают секунд ротозеи На оконном стекле.
А в стекле оплавляются тонко в невесомую канитель –
золоченная парная конка, и пурга, и метель…
Ангелы обрыдались, незатейливо нимбы свесив,
Джомолунгму и Килиманджаро окатив холодной водой,
той, что, впрочем, стекала даром, обмелевшею Ниагарой,
засыхая суспензией белой, иссушающей мир бедой.
Протекла река в Лету – пропала,
Далай-лама читает лао и взирает на Хуанхэ…
Не вернётся, не вспомнит речка,
где сливное её колечко,
о котором она не знала,
не мечтала и не роптала
на безводном своём языке…
Под асфальтом – смальта будущих времён,
над асфальтом – лики пропитых икон,
над асфальтом – небо, звон со всех сторон.
Тот, кто в небе не был, бросил всё на кон.
По асфальту глухо слышатся шаги,
буднично и тупо – в небо не моги!
Глупо, бессердечно, скупо и грешно…
Впрочем, человечно, – то-то и оно!
Только и всего-то: стоны на заре:
тот, кто прахом выпал – стынет на земле.
А под небом вечным – вновь зудящий спор:
кто отдаст нам крылья и лишит оков?
Стоны режут уши – ангелы в тоске.
На асфальте люди – птицы на песке.
Солгут ли мудрецы и мудрословы, когда узнают то, что мы вдвоём
поставили извечные заслоны (о том мечтают страстные пижоны:
и старики, чьи вытерты кальсоны,и юноши, поющие кансоны –
их пенья: нестихающие стоны…) читай по тексту – с памятных времён.
…Солгут ли? В том и суть, что не сумеют, найти любовь, с которой молодеют…
В которой зреют, странствуют, седеют и обретают право быть собой!
Городу не избежать эпохи: подрастают дети-волкодавы –
из вольеров тупо смотрят лохи, "шариковых" злобные оравы.
Подлые их внуки кровопивцы (будущие "шавки" и "полканы”),
прошлого позорного мздоимцы – подлые, голодные оравы.
Городу не избежать печали, вбитую под спуды тротуаров.
Мы о том нисколько не молчали, только нас свели с его бульваров…
в чёрные “Квадраты” подземелий, где неон и воздух подконтрольны.
Бросит там напалм дурак Емеля, и не станет нас – пустых и вздорных.
Городу не избежать рожденья правнуков багряных революций.
Вызреет иное поколенье из удушья вечных контрибуций.
И пройдёт божественно ранимо, разорвав на части плутократов –
несть числа потомкам пилигримов, тех, кто без вины жил в виноватых.
Городу не избежать моленья среди штолен чёрного оскала,
там, где потребительское рвенье шло на нас огромным жутким валом.
Херилась история, и в буднях обреталась значимость иголок,
шпилек… от заката до полудня – мир съедал всегдашний алчный молох!
Засыхали вешние колодцы, размывались крепкие запруды,
но восстали будней ратоборцы, и ушли в незримое иуды…
Чтобы пребывать, как и годится, голубую кровь мешая в венах,
с тем, что на сегодня пригодится – на обвесах, выкрутках, обменах…
А в аортах каменного горя замирали этажи участья,
а слеза к слезе рождала море, за которым обитало счастье.
А под ним – бесстыдно и упруго, повсеместно, буднично и чутко
подрастали "секси" недолуго вместо тех, кому подали "утку".
И опять, всё пепельно и млечно начинала жизнь легко и просто.
Кто-то говорил о человечном, кто-то знал о подлости заочно.
Кто-то сокрушался, кто-то верил, кто-то уезжал в миры иные.
…Город доверял, судил и мерил тех, кто оставался в нём… Доныне.
Ночью с камней бежит вода,
молоко претворяя в мёд.
На кисейные берега
норовит сигануть народ.
Во сто крат пережив хулу,
сопричастные к гамме драм,
мы уводим свою страну
в патетических дел бедлам.
Исторических бед бомонд,
истерически бьёт в набат.
Под вуалями – сонм Джоконд:
озарение в тыщи ватт!
Каждой ведомо: что и как
происходит не по судьбе…
Маг забвения – красный мак.
Мир кумарит в грешной мольбе.
У меня ушли глаза в тени-будуары...
День испит, измыт дождём. Высохнет едва.
Чую зиму за версту. В небе — кулуары.
Разметнулись над землёй тучи-острова.
Размахнулись — Божий дар! — над зелёным миром...
Ни сентябрь, ни октябрь едет на метле,
пострелёнок-сорванец девочка Альвира
“Снег и дождик, снег и дождь” — пишет на стекле.
Наш микробусный маршрут. Над планетой встряски.
А девчонка-шалапут песенку поёт.
“Снег и дождик” — в ней слова, как в волшебной сказке.
“Снег и дождик, снег и дождь” — за окном идёт.
Подложный альт Альбани завязывает спор
узлом усохшей фирменной трехрядки.
Живые продолжают резвиться до сих пор –
у них, живых, известные порядки.
Из Лондона с любовь, и в Астрахань – в пургу…
Зима завьюжит вычурно и зыбко.
И только альт Альбани увязнет на снегу –
пойди, пойми, дурище, а не скрипка!..
Под лаковой шубейкой промерзнет без тепла
и выкажет обиды и причуды –
так спевшие сжигают судьбу свою дотла,
так пляшут на пожарищах иуды…
Ах, грустное желанье – франтить без лишних поз
на фронтовом курорте по приказу.
Вминает в бойню Гагры пора метаморфоз,
как в жуткую истории заразу.
Здесь выброшены флаги из белых простыней
товарок простодушных на заимке.
Здесь проще быть удобней, как некогда модней
с мужчинками в обнимку по старинке.
Горошит альт Альбани нас три десятка лет –
альтист Данилов выжат до лимона.
И гаснет негасимый когда-то прежде свет
под всхлипы безголосого клаксона.
Подложный альт Альбани задраивает мир
до шейных позвонков, обритых резко.
И умирает зыбко растерзанный эфир,
и бродит признак сна за занавеской.
Ловлю тебя, отдавшегося льду, –
линией тела влеку тебя в ложе,
(танец травы мы станцуем, быть может),
с лиц не сжигая огней чехарду.
…Старый Пьеро выражается чинно.
Снят шутовской его на ночь колпак.
Бродит в ночном колпачке дурачина,
глупо, нелепо попавший впросак.
Под простыней тесситурой ладоней
вдруг телефон оборвет Дон Жуан.
Чтобы жене он с утра не долдонил –
ночь его выставит в тёмный чулан.
Там и оставит осипшего напрочь,
хоть и с женой он с моею не прочь.
Страсть раскаляет бессонную полночь –
тень из чулана не прочь нам помочь.
На запруженном солнцем бульваре
Калифорнии солнечный блик.
На открытке сестра мне прислала
из Америки солнечный миг.
А у нас только март без обиды.
Завтра иды – ристалище грез…
Белоснежных плащей неликвиды,
и по-прежнему щиплет мороз.
В белотканное плетево мира
пурпурово врывается звук
громкострунного ритма клавира
рок-н-джазного счастья и мук.
Белопенные билдинги в стыке
сопредельным высоткам двора.
Оркеструет Лос-Анджелес лихо
град великий на склонах Днепра.
Те же окна, и те же граффити,
те же вязкие дебри садов…
Погружение в счастье ловите,
сопредельные стыки миров!
Канатье их французской соломки
у прабабки моей на духу…
Но потомкам и неграм неловко –
нынче мода не та уж, ку-ку!
Сопределье открыток – земляне,
какофония звуков – Земля.
Мы плывём в мировом океане,
мистер Джаз у земного руля…
Блюз печальный в колдовском азарте
что-то шепчет утвари кухонной.
Просыхают слезы на асфальте
в мире постороннем, заоконном.
Дождь пропел, желая быть учтивым,
песенку о счастье запредельном.
Облачные сжались клавесины,
выжатые насухо предельно.
Ни тебе ни звуков, ни молитвы,
арт небес смешался с блюзом ночи.
Обоюдоострым жалом бритвы
сны кромсает джаз-разнорабочий.
Он ответы ищет без зазренья
там, где сны наврали до излишка.
Он целует женские колени,
хоть и это тоже, скажем, слишком!
Он наврет им жарко и упорно:
дескать, дождь такой же неудачник,
как и тот сервант огнеупорный,
где внутри сверчок построил дачку.
И решит вопрос на раскладушке
жаркими промывами из вёсен,
угомон забросив под подушку
и туда же грусть, печаль и осень.
Утро счастье выставит за двери,
побредут по миру тараканы,
а за ними – устрицы и змеи –
прошлых дней ползучие тараны.
У слов обычай собираться в строки.
"Аз сем обычам" – слышу до сих пор.
Народа неславянского истоки
сродненные славянским языком.
Рефрен:
Нет малых в любви разноликой:
святые грешат на духу.
Любовь, love, обычам…
Любовь, love, обычам…
И вспыхнут цветы на снегу.
У строк обычай собираться в книги.
Несут они вериги прошлых лет.
Но через годы вспыхивают миги
отчаянно любовных кинолент.
Рефрен:
Нет малых в любви разноликой:
святые грешат на духу.
Кохання, обычам…
Кохання, обычам…
Фиалки взойдут на снегу.
У книг обычай собираться в веды.
В них выстрадано право пожинать
свои вчера, казалось бы, победы,
которые печально вспоминать.
Рефрен:
Болгария, Россия, Украина,
да мало ли куда носила жизнь!..
Любовь, кохання – мира пуповина,
и за неё отчаянно держись!
Репетируем эмиграцию, на картинах живет Шагал.
Ах ты, Господи, что за нация – бесконечный девятый вал!
Ах, ты, Господи! Слово всякое – переплавлено – пережги…
Боль несносная, боль двоякая режет памяти бережки.
Мордехай и Эсфирь не узнаны, может в том их, как знать, вина.
И уводит народ свой Сузами Эздра в новые времена…
Над Шушаном встают развалины пересортицей жарких зим.
И глаза у Эстер провалены, И остался один Пурим.
Царедворцы сбежали загодя и взирают теперь с икон –
что им, Господи, Храм иль Пагода,сто Эстер и семьсот богов?!
Мудрость в сказке забытой истинна – делит вычуры слов до дна:
хоть Эстер сражалась воистину, но пророков шли времена:
Уводить народ от заклания, от икон, Европ и затей,
навсегда в графу мироздания четырех земных четвертей.
Репетируем эмиграцию, – что царица нам прошлых лет.
Мы – изгои, мы нищих нация. Мы за Эздрой ступаем вслед.
Прошагаем по небу синему безо зла и без вещих снов.
Попрощаемся с Украиною. Где наш Эздра, чей путь не нов?
У землян – одноместные души – по иному не создал их Бог:
в мире явленном горечь обрушит сопричастия звёздных дорог.
В мире явленном утро расплавит иллюзорность волшебного сна,
и планида к судьбе не добавит ни изысков ни злат-ремесла.
Златокудрые выдумки тоже, ощущая бессилие век,
разорвутся как тромбы под кожей, осыпая на волосы снег.
Заиграет на лютне всезнайка – полу-Эрос и полу-Пижон,
и Зима, молодая хозяйка, заскулит зыбкой вьюгой с икон.
В полуяви пригрезится Чудо, и в неявленной вотчине дня
застучат молотки пересудов, обжигая мечту без огня.
И в оплавленных вычурах счастья, среди явленных на ночь теней,
тело к телу прижмется в ненастье и умрет, словно крик-чародей.
В киоске маскарадном, где продают автол,
играют третьерядно в подпольный лототрон.
Играют бесшабашно в запретное авось.
У каждого заветно: “Иного отмотрось!”
У каждого заточка и жадные глаза.
У каждого сорвало по жизни тормоза.
У каждого к рассвету души дозреет криз,
Он сам собой за это других потащит вниз.
В Тартар. В столицу Ада — за выжег и за страсть.
А мне чего здесь надо? Я ж здесь могу пропасть.
…Стою я у киоска и жду судьбу неброско.
НЕДЕТСКАЯ СЧИТАЛОЧКА
Угомон, что укорот — отвернули от ворот,
развернулись в эту жизнь. За неё-ка и держись.
Страна на завалинке примеряет валенки...
Сбиты войлоки в меха, сбиты души в потроха,
сбито прошлое в жнивьё, в разномерное хламьё.
Страна на завалинке обувает валенки...
Чёрно-красное, держись, блекнут краски, меркнет жизнь.
Беспортошно, без сапог по Земле проходит Бог.
Господь — тяп по маленькой — мир обует в валенки...
Антимера босяком рыщет в душах сквозняком.
Слов срывается слизняк в антимире кавардак!
Тот, кто валенки обул, тот уж на воду подул,
сварил кашу с топора,выпил воду из ведра,
выгреб каторгу судьбы, прожил годы на абы,
на кабы, на как бы так — простофиля и чудак...
Тот, кто сам плывет за буй — тут же валенки обуй!
Кабриолет дорогой ранней увозит лето в дальний край…
Так ситный хлеб всего желанней, хоть рядом стынет каравай.
И мы, отведавши горбушки, и, свесив брюшки на бочок,
грустим, что съели на полушку, ан, вот уж лета нет! – Щелчок
Переключает наши души на грустной осени напев…
Кабриолет все глуше, глуше, и редко кто, за ним поспев,
Перемежает солнцедарный, лучистый солнечный загар,
Со сном из проседи угарной мешая солнечный пиар.
И с тем живет, и греет веско, всех тех, кто солнышко любя,
грустит, увы, за занавеской, жалеет собственно себя.
Намозолили мозоли, налохматили власы.
Ах, доколе, ах, доколе будут слышны голоса
подающие надежды подобающе хиреть,
там, где прежде,
там, где прежде вызревало право сметь?!
Вызревало, места мало, умоляло: – Не робей!
Ведь на то оно и Право, а не слово-воробей…
С перекошенными ртами били в грудь: – Даешь оплот!
Что за страшное цунами смыло душ их жалкий флот?
С якорей сорвало души и ударило о брег
опостылой грешной суши, оборвав судьбы разбег.
…Будь по праву славен тот, кто опять построит флот!
"Поездные дворцы" остановок, идиоты, творящие блажь…
Век двадцатый был очень неловок – дрань скамеек. Сим душу уважь.
Объявляется век двадцать первый, отправляется в вечность вагон.
У кого перекошены нервы, тот срыгнет у житейских икон.
Остоновка, что хрупкая спица, – лопнет обод в обводе судеб:
здесь вальяжная сказка приснится, там случайная вычурь бесед…
Не протиснуться. Слов свиристели отпоют отшумевшие сны
и на одре предсмертном, в постели ближе к ночи окажемся мы.
"Поездные дворцы" остановок нам пригрезятся в сумрачной тьме,
терренкур будет слеп и недолог, в мир, где сказки приходят ко мне.
Иконы, музыкальные тона, наличие левкаса и покоя.
Так вышло, что не приняли меня на должность Ойле нового Лукойя…
Тот прежний пережил двадцатый век и в сказочники больше не годился.
Подрос и сам вчерашний человек, и тот, кто в нем до времени гнездился…
Одни твердят, что был то просто плут, вторые говорят, бери повыше –
космит-бродяга! – мог за пять минут легко подтасовать мозги глупышек.
И что тогда? Нелепо и грешно о чём-то ворковать уже негоже –
сквозь Кольца во вселенную – смешно! Придумают иное чуть попозже.
В тридцатом веке, скажем, и тогда клонируют нас заново, ребята,
дабы не остывала никогда мечта, что нынче проклято распята.
И я тогда, избрав иной обет – инок и странник в вечном мирозданье,
легко пошлю грядущему привет, и в будущее выйду на заданье…
Не порицать мечтательных вралей, не жить в тени булавочных ролей,
а вновь пройтись по лезвию ножа, единым мигом счастья дорожа.
Единым шагом, выдохом одним, последней ролью, смыв вчерашний грим!
В миры идут идеи, которых и не ждал.
Пыхтел, над ними зрея, а вышел драгметалл.
Кристаллы самоцветов просыпались в миры,
в которых прежде СВЕТА не ведали умы.
Теперь же всякий умник терзает почем зря
вчерашних дел подстрочник в листках календаря.
2000-2002 гг.,
г. Киев, Украина
Свидетельство о публикации №103040401213